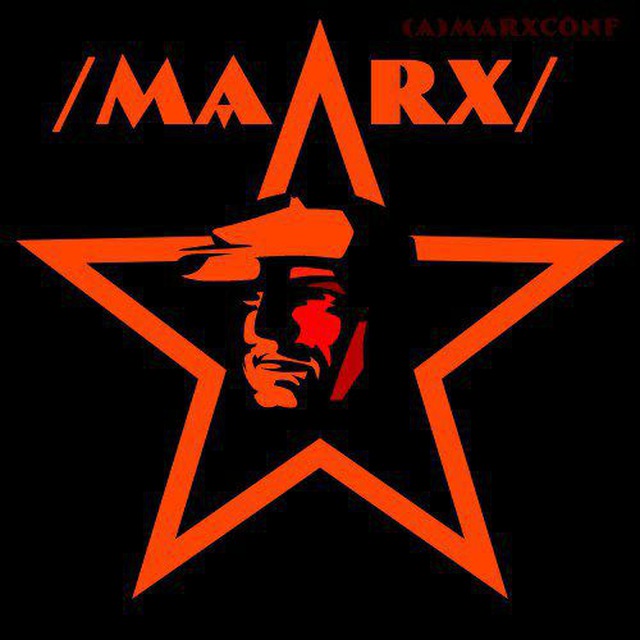ГБ
Size: a a a
2021 May 15
CN
В смысле припускает... я не имею высшего обрпзования и не обязан что-то знать ) так что мне всё равно... Хочется, конечно, что-то уметь или знать
А
... У меня у самого шизофрения диагностирована, правда, со мной врач на тему философской интоксикации никогда не говорил.
Тут что-то добавлять - только портить.
Тут что-то добавлять - только портить.
ГБ
ты из дурки пишешь?
ГБ
ГШ
(зевая) Не из дурки, но в левый чатик :)
ГБ
Человек-многоаккаунтщик, первый признак расстройства
ГШ
Человек-гриб знает, он пожил...
ГБ
Q
Догматик плес)
Q
Россия занимает первое место в мире по соотношению состояния долларовых миллиардеров к ВВП страны. Совокупное состояние российских миллиардеров составляет около 35% ВВП, при этом за последний год оно выросло примерно на 10 процентных пунктов. На это указывает индийский инвестор Ручир Шарма в своем материале для британской газеты Financial Times.
Второе место занимает Швеция, где состояние миллиардеров близко к 30% ВВП, а третье – Индия (почти 20%). В пятерку лидеров вошли также Соединенные Штаты (около 19%) и Франция (около 17%).
В рейтинге по соотношению личного состояния к ВВП страны тоже есть российский олигарх — Алексей Мордашов занял тут четвертое место, его состояние эквивалентно 1,7% ВВП России.
Второе место занимает Швеция, где состояние миллиардеров близко к 30% ВВП, а третье – Индия (почти 20%). В пятерку лидеров вошли также Соединенные Штаты (около 19%) и Франция (около 17%).
В рейтинге по соотношению личного состояния к ВВП страны тоже есть российский олигарх — Алексей Мордашов занял тут четвертое место, его состояние эквивалентно 1,7% ВВП России.
Q
Естественно, что в ходе революции и смены общественного строя неизбежны были изменения в укладе и программах школы, но мало кто ожидал, что целью реформы станет отход от сложившейся к концу 20-х гг. ХХ в. модели единой общеобразовательной школы, которая, в принципе, хорошо выполняла свои функции и была институтом, консолидирующим общество. Эта модель в ХХ в. была эффективно адаптирована в разных политических и социальных условиях и вполне могла бы работать в «рыночной» России с косметическими изменениями. Зачем надо было ломать школу?
Министр образования В.М. Филиппов объяснил: «Изменившееся российское общество требует адекватных изменений и от системы образования — нельзя консервировать то, что когда-то было лучшим в мире». Это не убеждает. Что в «изменившемся российском обществе» несовместимо с «лучшим в мире» образованием?
Видный математик и деятель математического образования, профессор МГУ и член исполкома Международной комиссии по математическому образованию И.Ф. Шарыгин писал: «Руководители российского образования, а они все сплошь реформаторы, не только не отвечают на такие важнейшие вопросы, как: „Почему надо реформировать образование? Каковы цели этого реформирования?“ Они даже не ставят этих вопросов. Ни в одном документе, от них исходящем, не сформулированы четко цели образования вообще. Непонятно даже, что такое реформа образования».
В «Независимой газете» И.Ф. Шарыгин так писал об аргументации реформаторов: «Утверждение, что система российского образования, как и все прочее, оставшееся от советской власти, нуждается в серьезном реформировании, объявляется сегодня аксиомой, а аксиомы, как известно, не доказываются. Вот наши руководители и их советники и не утруждают себя доказательствами. „Вы, конечно, понимаете, что наше среднее и иное образование необходимо реформировать“, — говорят нам. И мы смущенно бормочем: „Да, конечно, понимаем, но…“».
Идеологи этой реформы не отвечали на простые и ясные вопросы или изъяснялись метафорами и абстрактными понятиями так, что это поражало даже после того, чего мы наслышались в 1991 г.
Преподаватель литературы С. Волков пишет: «Что поразило меня на коллективных обсуждениях проблемы? То, что сами разработчики нынешнего варианта ЕГЭ прекрасно понимают многие из перечисленных его минусов и сами признаются, что считают наилучшей формой экзамена по литературе сочинение. Зачем же они тогда всё это делают? Зачем участвуют в работе, которая может повлечь за собой разрушение многих основ существования предмета в школе?
Ответ на этот вопрос ещё более поразителен: если не ввести литературу в формат ЕГЭ, тогда этот предмет будет из школы выдавлен. „Вы не понимаете! — много раз слышал я слова. — Там, наверху (указательный палец вонзается в потолок), нам дали понять (вариант: прямо сказали), что литература неудобна сейчас: единых критериев оценки работ не выработано, субъективизма во всём выше крыши, да и идеологически русская классика несовременна. Где, например, положительный образ предпринимателя? Мы стоим перед реальной угрозой вытеснения литературы из школы. Войти в ЕГЭ — последний шанс выжить. В неудобной позе, „на аршине пространства“, но выжить“.
Итак, вот, оказывается, в чём корень вопроса. Вот какие ставки в этой игре. Тогда было бы желательно знать, кто лично возьмёт на себя ответственность… за запрет литературы в школе?.. А если никто и не собирается такую ответственность на себя брать? Если всё это миф… ? Если все эти намёки так, на всякий случай — вдруг сами, первые, без приказа поддадимся и суетливо начнём всё ломать собственными руками? И ведь начали ломать!»
Будучи министром образования РФ, В.М. Филиппов привел такой аргумент: «Кто-то очень метко заметил: „В США есть цивилизация, но нет истинной, древней культуры. В России — богатая культура, но нет цивилизации“. Наша задача — сохранить российскую культуру и создать цивилизованное общество».
Министр образования В.М. Филиппов объяснил: «Изменившееся российское общество требует адекватных изменений и от системы образования — нельзя консервировать то, что когда-то было лучшим в мире». Это не убеждает. Что в «изменившемся российском обществе» несовместимо с «лучшим в мире» образованием?
Видный математик и деятель математического образования, профессор МГУ и член исполкома Международной комиссии по математическому образованию И.Ф. Шарыгин писал: «Руководители российского образования, а они все сплошь реформаторы, не только не отвечают на такие важнейшие вопросы, как: „Почему надо реформировать образование? Каковы цели этого реформирования?“ Они даже не ставят этих вопросов. Ни в одном документе, от них исходящем, не сформулированы четко цели образования вообще. Непонятно даже, что такое реформа образования».
В «Независимой газете» И.Ф. Шарыгин так писал об аргументации реформаторов: «Утверждение, что система российского образования, как и все прочее, оставшееся от советской власти, нуждается в серьезном реформировании, объявляется сегодня аксиомой, а аксиомы, как известно, не доказываются. Вот наши руководители и их советники и не утруждают себя доказательствами. „Вы, конечно, понимаете, что наше среднее и иное образование необходимо реформировать“, — говорят нам. И мы смущенно бормочем: „Да, конечно, понимаем, но…“».
Идеологи этой реформы не отвечали на простые и ясные вопросы или изъяснялись метафорами и абстрактными понятиями так, что это поражало даже после того, чего мы наслышались в 1991 г.
Преподаватель литературы С. Волков пишет: «Что поразило меня на коллективных обсуждениях проблемы? То, что сами разработчики нынешнего варианта ЕГЭ прекрасно понимают многие из перечисленных его минусов и сами признаются, что считают наилучшей формой экзамена по литературе сочинение. Зачем же они тогда всё это делают? Зачем участвуют в работе, которая может повлечь за собой разрушение многих основ существования предмета в школе?
Ответ на этот вопрос ещё более поразителен: если не ввести литературу в формат ЕГЭ, тогда этот предмет будет из школы выдавлен. „Вы не понимаете! — много раз слышал я слова. — Там, наверху (указательный палец вонзается в потолок), нам дали понять (вариант: прямо сказали), что литература неудобна сейчас: единых критериев оценки работ не выработано, субъективизма во всём выше крыши, да и идеологически русская классика несовременна. Где, например, положительный образ предпринимателя? Мы стоим перед реальной угрозой вытеснения литературы из школы. Войти в ЕГЭ — последний шанс выжить. В неудобной позе, „на аршине пространства“, но выжить“.
Итак, вот, оказывается, в чём корень вопроса. Вот какие ставки в этой игре. Тогда было бы желательно знать, кто лично возьмёт на себя ответственность… за запрет литературы в школе?.. А если никто и не собирается такую ответственность на себя брать? Если всё это миф… ? Если все эти намёки так, на всякий случай — вдруг сами, первые, без приказа поддадимся и суетливо начнём всё ломать собственными руками? И ведь начали ломать!»
Будучи министром образования РФ, В.М. Филиппов привел такой аргумент: «Кто-то очень метко заметил: „В США есть цивилизация, но нет истинной, древней культуры. В России — богатая культура, но нет цивилизации“. Наша задача — сохранить российскую культуру и создать цивилизованное общество».
T
"становится оторванным от других (обычных) людей, всё больше и больше удаляется от людей"....😂😂. От каких? От какого класса?)
А
Перссон неоднократно подвергался критике за свои взгляды на политические и социальные проблемы, высказываемые им в твиттере. Например, он назвал феминизм «социальной болезнью» и утверждал, что большинство феминисток «открыто сексистски настроены против мужчин»[15][16]. В июне 2017 года Перссон непечатно обругал разработчицу видеоигр Зои Куинн[15]. В июне 2017 года он написал в твиттере несколько сообщений в поддержку гетеросексуальной гордости (straight pride), сообщив оппонентам, что они «заслуживают расстрела»[16]. Столкнувшись с негативной реакцией сообщества, он удалил твиты и отказался от своих заявлений. В ноябре 2017 года Персона раскритиковали за публикацию твита, в котором говорилось: «Это нормально — быть белым» (It’s ok to be white)[17]. В последующих твитах он сообщил, что считает привилегии «надуманной метрикой» (made up metric)[18]. В марте 2019 года он был раскритикован за приравнивание транссексуальности к психическому заболеванию[19].
А
чел который делал майнкрафт уже миллиардер
А
говорит я не знаю куда деньги девать
М
Стандартная процедура прописки для новичков.
Ответьте одним сообщением.
1. Кто вы по классовой принадлежности?
2. Какие убеждения?
3. Какое отношение к диктатуре пролетариата?
4. На дискуссию или как зритель?
5. Как и откуда вы о нас узнали?
Не забываем про наши каналы - @Marx_Ch, @Marx_lit.
Правила чата здесь: https://t.me/MARXconf/419114
По всем вопросам писать тов. @Sangre_De_Oro
Ответьте одним сообщением.
1. Кто вы по классовой принадлежности?
2. Какие убеждения?
3. Какое отношение к диктатуре пролетариата?
4. На дискуссию или как зритель?
5. Как и откуда вы о нас узнали?
Не забываем про наши каналы - @Marx_Ch, @Marx_lit.
Правила чата здесь: https://t.me/MARXconf/419114
По всем вопросам писать тов. @Sangre_De_Oro
А
1. бот 2. отслеживать скидки на iherb 3. покупайте на iherb 4. отслеживать скидки 5. iherb
CN
Если человек учился в этот момент в 10-м классе, то от 10-го
А
не уважает тебя врач