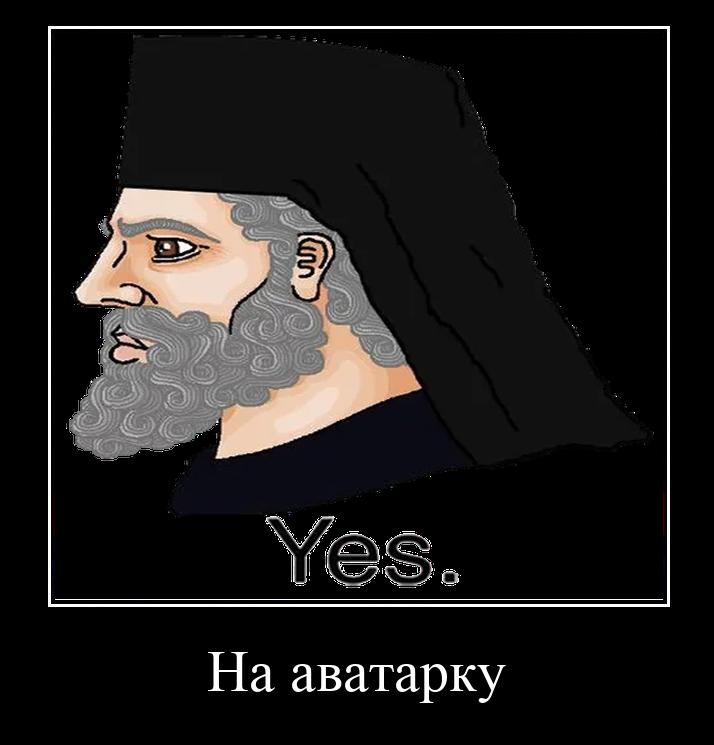КИ
Size: a a a
2020 January 12
не по хуй, что там транслируют пидоры
2020 January 13
a᠌
Платошкин (российский дипломат, политолог и историк. Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета) о Китае.
Некоторые тезисы:
- Американцы уничтожат Китай в следующем или в этом году
- Китай это большой ноль
- Китайцы самая практичная нация в мире, хуже американцев
- Китай всегда воспринимал сопредельные страны не как партнеров, а как вассалов
Полностью
https://www.youtube.com/watch?v=vpyClxFsQGc
Некоторые тезисы:
- Американцы уничтожат Китай в следующем или в этом году
- Китай это большой ноль
- Китайцы самая практичная нация в мире, хуже американцев
- Китай всегда воспринимал сопредельные страны не как партнеров, а как вассалов
Полностью
https://www.youtube.com/watch?v=vpyClxFsQGc
2020 January 14
r🦉

a᠌
С точки зрения историко-прагматического подхода, натуральное хозяйство является наиболее естественной и справедливой схемой экономического существования человека. На это утверждение, разумеется, тут же последует возражение, что узкая специализация приводит к росту производительности и увеличению благосостояния общества. Но нужно понимать, что обмену как таковому свойственная одна фундаментальная проблема — недостаток доверия. Говоря по-простому, любая торговля порождает соблазн обмануть другую сторону договора, стремясь к достижению максимальной выгоды. Поднятый Марксом вопрос о неразрешимом противоречии между работодателем и работником — лишь частный случай этой проблемы. Наиболее частое возражение марксистам со стороны их оппонентов — это указание на ненаучность трудовой теории стоимости (из которой исходит понятие прибавочного продукта, который якобы присваивает работодатель), а труд следует рассматривать лишь как очередной торгуемый на рынке товар. Возражение, нужно сказать, справедливое, но оно лишь подводит нас к куда более крупному клубку противоречий, который у нас принято называть "правами потребителя".
Теория "невидимой руки" Адама Смита строится на одном очень серьёзном допущении: в его абстрактной модели свободного рынка все экономические субъекты обладают полной информацией о ценах и товарах, их качестве, технологии производства и так далее. На деле же всё куда сложнее. Предположим, я хочу построить дом и ищу подходящего застройщика. Для этого мне придётся решить две важных задачи: во-первых, изучить технологии строительства хотя бы на базовом уровне, а во-вторых, провести исследование рынка для выявления оптимальной цены. Это требует много времени и умственного напряжения, но если я этого не сделаю, то стану очередной жертвой мошенников или как минимум сильно прогадаю. И дом — это ещё крупное приобретение, а о проведении таких исследований для ежедневных покупок типа продуктов или лекарств мы даже не задумываемся. Потому-то продажи "мелочёвки" имеют наибольшую рентабельность, и на них делаются самые крупные деньги.
Думаю, вышесказанное хорошо показывает то, почему чрезмерно узкая специализация на деле не работает. Ведь для того чтобы эффективно и осмысленно потреблять товары и услуги в какой-то сфере, человеку приходится эту самую сферу весьма тщательно изучать, чего абсолютное большинство людей делать не желают и не будут делать. Положение экономических субъектов в этой битве категорически не равно, ведь пока одна сторона (физические лица) вынуждена решать эти вопросы самостоятельно, другая (крупные компании) может позволить себе не только целую армию экспертов, но и формирование самого мышления потребителей через рекламу и СМИ.
Что характерно, для жителей пост-СССР натуральное хозяйство не является каким-то забытым архаизмом: мы прекрасно помним что такое выходные на картофельных грядках. Большевики создали весьма занятную систему нео-барщины, в которой пролетарий пять дней в неделю работал на государство, а два дня добывал пропитание для себя, поскольку в государственных магазинах еды часто не хватало, а на рынке всё было слишком дорого. Этот опыт, эту тягу к земле постсоветского человека можно (и даже нужно) обратить в свою пользу, создав некое изящное сочетание традиционной и модерновой экономики.
Теория "невидимой руки" Адама Смита строится на одном очень серьёзном допущении: в его абстрактной модели свободного рынка все экономические субъекты обладают полной информацией о ценах и товарах, их качестве, технологии производства и так далее. На деле же всё куда сложнее. Предположим, я хочу построить дом и ищу подходящего застройщика. Для этого мне придётся решить две важных задачи: во-первых, изучить технологии строительства хотя бы на базовом уровне, а во-вторых, провести исследование рынка для выявления оптимальной цены. Это требует много времени и умственного напряжения, но если я этого не сделаю, то стану очередной жертвой мошенников или как минимум сильно прогадаю. И дом — это ещё крупное приобретение, а о проведении таких исследований для ежедневных покупок типа продуктов или лекарств мы даже не задумываемся. Потому-то продажи "мелочёвки" имеют наибольшую рентабельность, и на них делаются самые крупные деньги.
Думаю, вышесказанное хорошо показывает то, почему чрезмерно узкая специализация на деле не работает. Ведь для того чтобы эффективно и осмысленно потреблять товары и услуги в какой-то сфере, человеку приходится эту самую сферу весьма тщательно изучать, чего абсолютное большинство людей делать не желают и не будут делать. Положение экономических субъектов в этой битве категорически не равно, ведь пока одна сторона (физические лица) вынуждена решать эти вопросы самостоятельно, другая (крупные компании) может позволить себе не только целую армию экспертов, но и формирование самого мышления потребителей через рекламу и СМИ.
Что характерно, для жителей пост-СССР натуральное хозяйство не является каким-то забытым архаизмом: мы прекрасно помним что такое выходные на картофельных грядках. Большевики создали весьма занятную систему нео-барщины, в которой пролетарий пять дней в неделю работал на государство, а два дня добывал пропитание для себя, поскольку в государственных магазинах еды часто не хватало, а на рынке всё было слишком дорого. Этот опыт, эту тягу к земле постсоветского человека можно (и даже нужно) обратить в свою пользу, создав некое изящное сочетание традиционной и модерновой экономики.
WC
ren 🦉

Вин
WC
Всё так и было.
WC
😭😭😭
r🦉
r🦉
это был кстати ферсттрай
r🦉
как и со взятием рейхстага
WC
Хреново быть персонажем из рассказа на Даркере
WC
:'(
WC
(на аве герой хоррора)