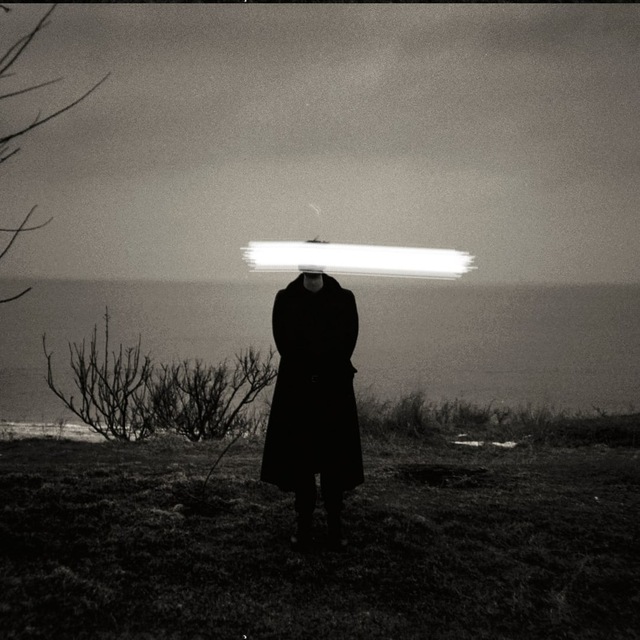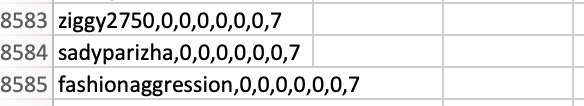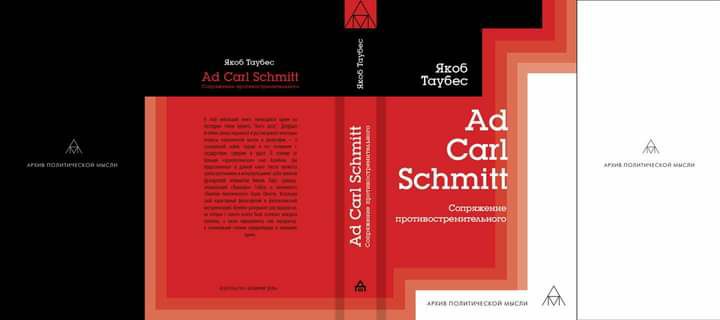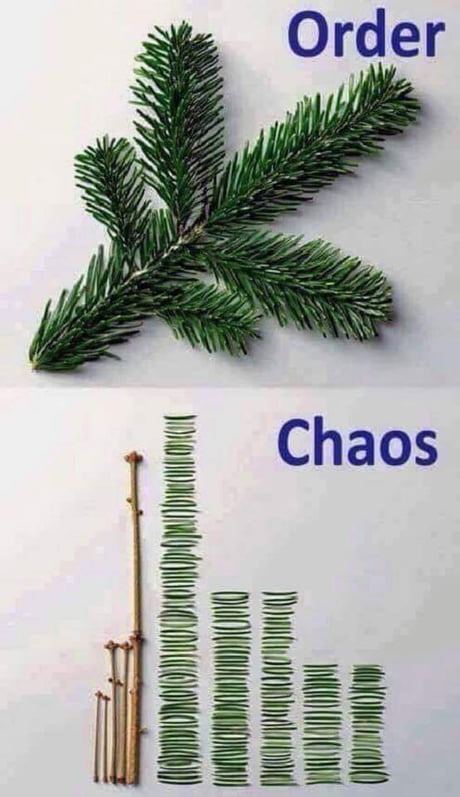каждый день передо мной встают мириады текстов. я словно хожу между ними, очарованно смотрю на раскиданные по экрану облики, и всякий раз подолгу не могу выбрать, какое слово соединится в резком порыве с временем моей жизни.
позднее, когда выбор делается, я часто сожалею о нём, перебирая в памяти безнадёжно утерянные альтернативы и затемнённые переулки, в которые можно было свернуть (будь на то желание). я оглядываю их с неловкой любовью, эти свидетельства нерешительности, множественности, колебания. в такие моменты всё будто бы впереди и будто бы позади.
у Клода Лефора есть занятная книга «Writing: The Political Test». она, в целом, о том, что письмо — это всегда опасность, всегда смелость броска. писатель неизменно связан, он в цепях идеологий, предпосылок и контекстов; его ключевая задача — вырваться из этих тенёт, создать собственный путь, свободный для нового видения. де-факто книга совершенно штраусианская (собственно, в ней даже есть глава, посвящённая Лео Штраусу).
но меня увлекла немного иная мысль: ведь переход от позиции писателя к позиции читателя не менее политичен, не менее пытлив. писатель, по Лефору, прорывается сквозь преграды, воздвигнутые системами мысли, жизненными незадачами и интеллектуальными омутами его окружений; но он, как правило, направляет этот импульс наружу, рождая текст, принадлежащий уже множеству таких же мечущихся душ. читатель же стремится к обратному. в его опыте — имплозия текста, вектор всегда направлен вовнутрь, на самого себя. думаю, Фуко заметил бы, что этот вектор (выступая словно лазер) как бы выкраивает в нас субъекта, следуя над-индивидуальным путям (полям?) субъективации, свойственным нашему социетальному, властному, этическому состоянию. я же, напротив, выделил бы личное столкновение с текстом как основание для вечно бурлящей субъективации. тексты формируют людей, люди формируют тексты: в этом есть некоторая апория, подтачивающая фукодианские (и прочие номиналистские) подходы. итак, мы переживаем этот опыт по отдельности, заключённые в своих уникальных капсулах времени и пространства. в этом прочтении «опространствление» [spatialization] практик, проблем и историй, предпринятое Фуко, теряет свою привлекательность. то же происходит и с более традиционным «овременением» тех же практик, свойственным классическим историям идей, концептов и дискурсов. полярность уступает место распылённости опыта (не фукодианской, но буквалистской распылённости). мы читаем книгу — но не природы, а, скорее, самих себя, читающих книгу. в этом вся апория.