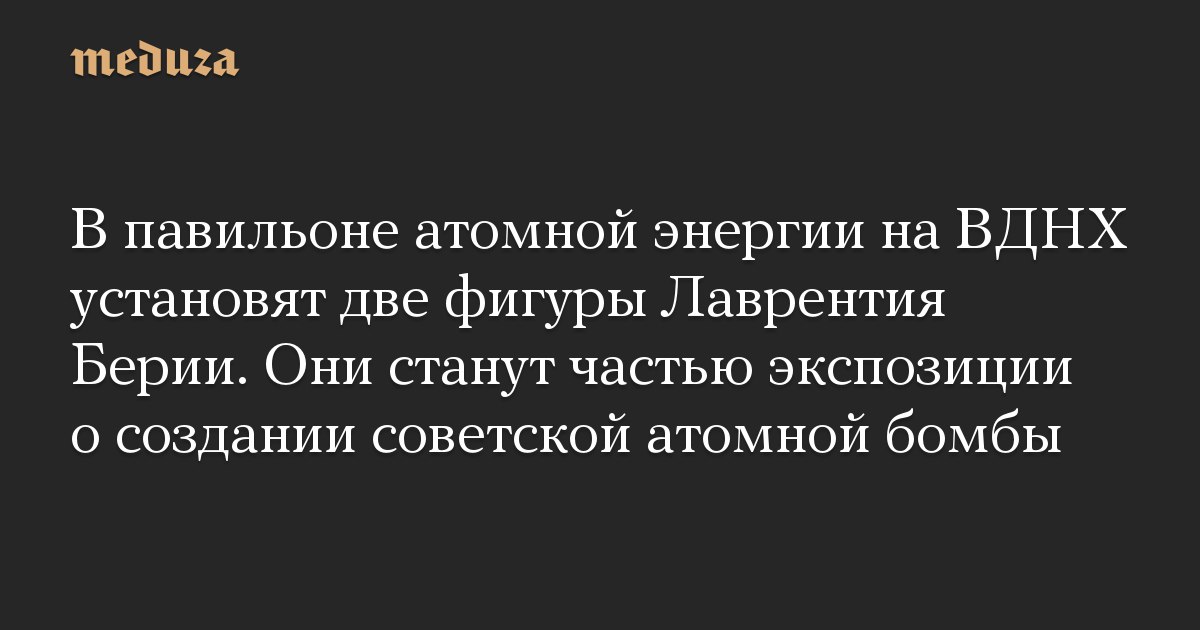Читаю интересную работу по политической психологии – новое междисциплинарное направление в науке – о природе современных протестных движений, в основном сетевых. Почему им легко удаётся поднять протест и почему так же легко он затухает и не приводит к политическим изменениям в обществе. Это 300-страничная работа «Новые социальные движения в сетевую эпоху» (Русское общество истории и философии науки, 2020 – Институт философии РАН, МГУ и ВШЭ). Работа написана специальным языком, но в переводе на более простой язык картина выглядит так.
1)Все, кто не способен и не желает осуществлять конформное поведение, теперь не исключаются из общества как некие «асоциальные элементы», не «рассеиваются» как индивиды где-то на периферии социума и не гибнут, а объединяются в сообщества. Более того, происходит институциализация этого демонстративного непризнания нормативных установлений общества. А социальные сети дают им голос.
2)Этот новое явление развёртывается в обществе, где многие идеи экстремистского протеста одобряются (как идея), но не одобряются (как метод решения) одновременно. По больше части всё заканчивается «сетевым экстремизмом». Этот парадокс затем разрешается различением на «поражённых в правах» (голодающих, русских, афроамериканцев, подвергшихся дискриминации женщин, исключённых их публичной политики и т.п.) и их «идейных представителей».
3)Это отличает протестную систему коммуникации от традиционных систем («старой политики» - борьба за власть, деньги, истину и т.п.). Новая протестная среда апеллирует к «телесным», «физиологическим» формам удостоверения своей значимости (соответственно, насилию, потреблению, восприятию, сексуальности).
4)Новые протестные/сетевые системы держатся в т.ч. на способности испытывать страх за другого. Это почти немыслимое ранее на уровне индивидуальной психики явление: перманентные накопление и транспортировка страхов от одного к другому участнику движения, а также нейтрализация и преодоление глубоко укоренившейся традиционной установки, запрещающей мужчинам демонстрировать страхи. Именно эта «добавочная» эмоция заместительного страха делает возможным интеграцию больших протестных сообществ.
Именно страх по причине его эмоциональной силы, несопоставимо более мощной в сравнении с другими эмоциями, выступает механизмом, который делает возможным «накручивание» и социальное «возбуждение», как следствие – заинтересованное обсуждение. Изучать новый протест сегодня - это выявлять конкретные механизмы накопления страхов и коммуникативные уровни «передачи страха» (интерактивные, массмедийные, социально-сетевые.
5)Протестные темы способны безудержно инфляционировать, реализовывать механизмы положительной обратной связи, лавинообразно захватывать общественное внимание (прежде всего, в массмедиа, но также и ангажировать правовую систему). Никакие «старые» (в основном запретительные) механизмы контроля коммуникации не останавливают этот поток, в т.ч. и потому, что подавляющая сторона не понимает степени истинной травматизации (невротизации) участников сетевого протеста.
6)Но в этом же состоит и слабость протеста, поскольку, достигнув некоторого инфляционного потолка, протестная тема начинает «наскучивать» и утрачивает «новизну». Максимум, она уходит в сектор «развлечений».
7)Стадии такого невротизированного нового/сетевого протеста:
- Нервозность. Она характеризуется капризностью (человек недоволен всем и вся), неустойчивостью настроения, конфликтностью.
- Прочная стеничность. Её признаками являются нарастающая раздражительность (сопровождающаяся утратой самообладания, снижением самокритичности и усилением нетерпимости к недостаткам других), напряжённость в ожидании неприятностей.
- Астеничность. Она сопровождается снижением настроения, тревожностью, неуверенностью в своих силах, сильной ранимостью.
Для старых политических систем противодействие новым сетевым протестам одно – умение ждать, когда они сами выдыхаются до третьей стадии.