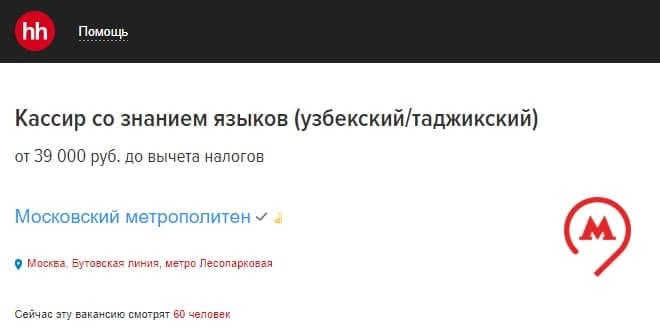Какие ещё важные изменения в российском обществе мы заметили в эту эпидемию Ковида? Равнодушие перед смертью значительной части населения, обречённость. Это объясняется и исторически низкой ценностью жизни простого россиянина (симптоматично тут, во сколько в среднем ценит жизнь россиянина начальство – это 2 млн. руб., или 25 тыс. евро), и архаизацией сознания россиян.
Читаю сейчас «Демографическая модернизация России, 1900-2000» под редакцией Анатолия Вишневского, и об этом восприятии смерти в позднецарской, домодерновой России там есть яркие примеры:
«Архаичная структура заболеваемости и причин смерти в дореволюционной России, объясняя высокий уровень смертности, сама нуждается в объяснении. Давая такое объяснение, следует указать на экономические, социальные условия, характерные для России конца XIX — начала ХХ века. К их числу относятся прежде всего невежество, низкий уровень общей санитарной культуры крестьянского большинства российского населения. Крестьяне в тогдашней России очень часто имели абсолютно средневековые представления об охране здоровья, предупреждении или лечении болезней. Еще в конце XIX века, по этнографическим наблюдениям тех лет, «считая болезни божьим наказанием за грехи, крестьяне переносят [болезни] с покорностью и в это время усерднее молятся Богу». «Важность санитарных мер осознаётся очень немногими, большинство относится к ним безразлично и даже несочувственно, считая дезинфекцию главной заразой». «При каждой болезни стремятся перепробовать все домашние средства, затем — средства родных и соседей. Потом везут больных к бабушкам и лекарям и только после этого, если положение становится хуже, везут в больницу, причем уверены, что больному лучше от этого не будет, но и «хуже то можа не сделают». Сами больные больниц остерегаются и просят лечить их дома, поскольку бытует мнение, что доктора лечат богатых, а бедных — морят».
Как писал автор того времени, «смертность от большинства болезней есть смерть насильственная, потому что известными мерами гигиеническими и санитарными можно ослабить свирепствование тифов, дифтерии, оспы и других инфекционных болезней» (Щербаков 1891). Но принятию «известных мер» препятствовали бедность, невежество, антисанитарные условия быта, вредные обычаи ухода за детьми, питания и т.д. По убеждению современников, на снижение смертности нельзя было рассчитывать, «пока не изменятся общие социально экономические условия жизни страны, пока не изменится к лучшему общий уровень культуры страны, пока мы не переставим расходы на народное образование и на водку» (Иванов 1911).
Как писал на исходе XIX века русский гигиенист Г.Хлопин, «сознание, что здоровье есть общественное благо, подлежащее защите общества или государства, явилось прежде, чем каждый член общества из развитого чувства самосохранения научился ценить здоровье для себя лично» (Хлопин 1897). В России того времени преобладало именно такое «патерналистское» сознание, индивидуальное же чувство самосохранения было ещё очень слабо развито. Сохранялось традиционное пассивное отношение к смерти, тогда как борьба с нею требует неутомимой активности.
Ко второй половине XIX века взгляды образованной части русского общества, возможно, уже несколько изменились, хотя, видимо, ненамного. О крестьянах же и этого сказать нельзя. Приведем типичное крестьянское высказывание, относящееся концу XIX века. «Воля божья. Господь не без милости - моего одного прибрал, - всё же легче... Это вы, господа, прандуете детьми; у нас не так: живут — ладно, нет — бог с ними... Теперь, как Бог его прибрал, вольнее мне стало» (Энгельгардт 1960).
Обобщая свои наблюдения жизни русской деревни в концепции «власти земли», «ржаного поля», предписывающего все нормы поведения крестьянина, Успенский писал: «Ржаное поле имеет дело только с живым и сильным, а до мертвого, до слабого, до погибающего ему нет дела...». Крестьянин привык выполнять приказания «ржаного поля и привык погибать, также исполняя с точностью свою погибель, раз она этим ржаным полем ему предуказана».