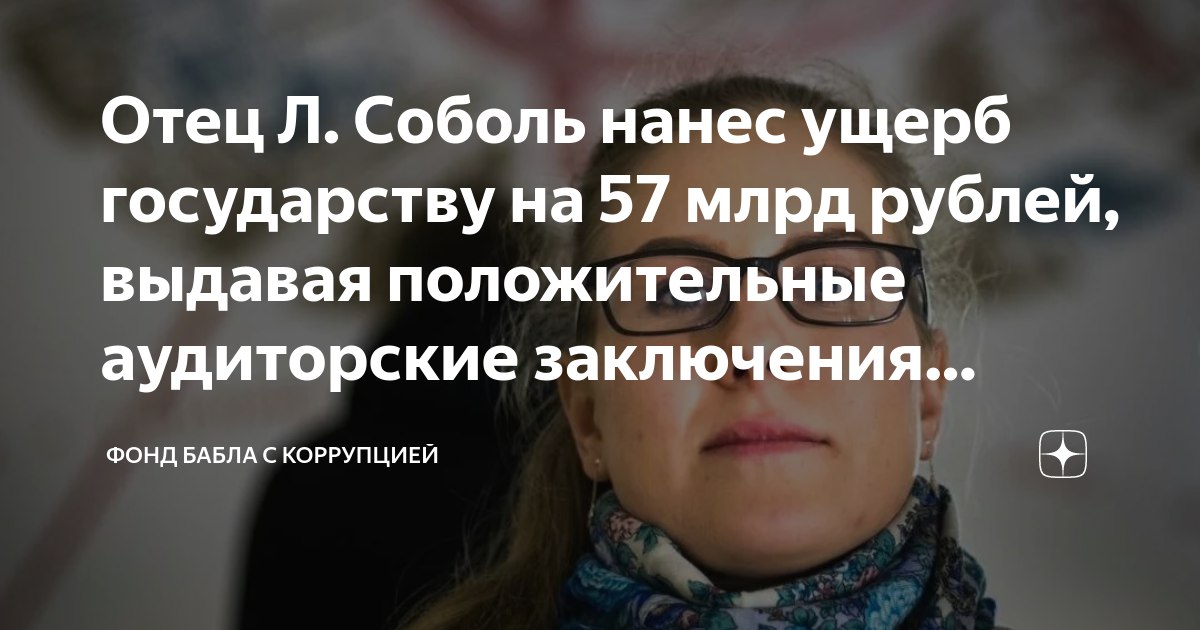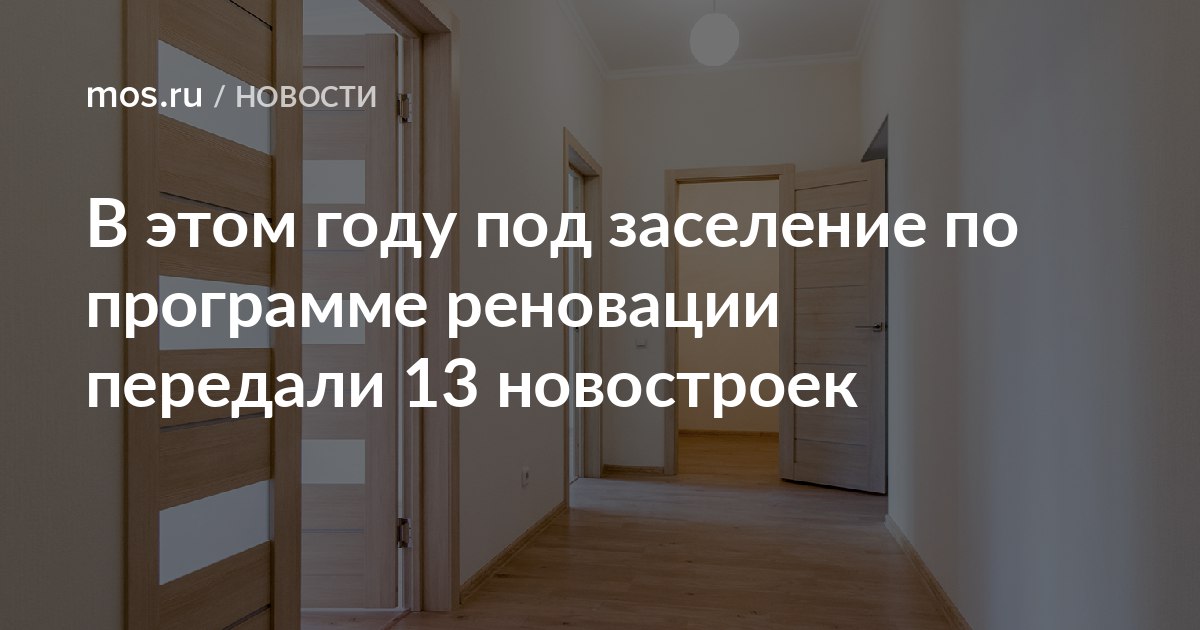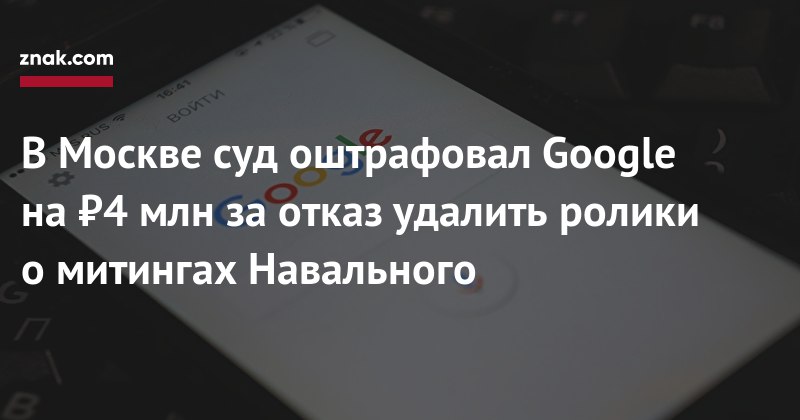В последние годы открытый банкинг стал синонимом цифровизации и трансформации финансового сектора. Зародившись в Европе, технология
стремительно захватывает другие страны, и роль регулятора очень разнится в зависимости от региона.
В ЕС, Великобритании, Мексике, Турции или Австралии действуют прямые нормативные требования. В Японии и Гонконге регулятор ограничивается надзором за рынком, в Сингапуре — рекомендациями, а в Новой Зеландии, Канаде, Колумбии и, кстати, России,
инициатива развивается «снизу».
Масштабы открытого банкинга тоже различаются: к каким компаниям применима технология, какая информация доступна третьим лицам с согласия клиента, каких операций с деньгами касается — только переводов или открытия продуктов тоже.
Например, в Европе Директива о платежных услугах (PSD2)
применяется к банкам и электронным
кошелькам, облегчает доступ третьих сторон как к транзакционным данным, так и к платежным операциям. Банки могут сами принимать решение о разработке API-интерфейсов, но они в любом случае должны быть одобрены властями. Есть стандарты API, созданные отраслевыми группами (например, The Berlin Group).
В Мексике закон о финансовых технологиях
применяется практически ко всем типам финансовых организаций, касается транзакционных данных и данных о продуктах, но не включает платежные операции. Власти разрабатывают общие стандарты API.
В Австралии право на данные о потребителях распространяется пока
только на банки, но в будущем затронет энергетический сектор и телекомы.
В России открытый банкинг развивается с 2016 года и регулируется ЦБ, в октябре прошлого года появились стандарты открытых банковских интерфейсов. В настоящее время банки не обязаны открывать API для сторонних разработчиков, но многие делают это добровольно. Среди энтузиастов —
«Сбербанк», «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и «Открытие».