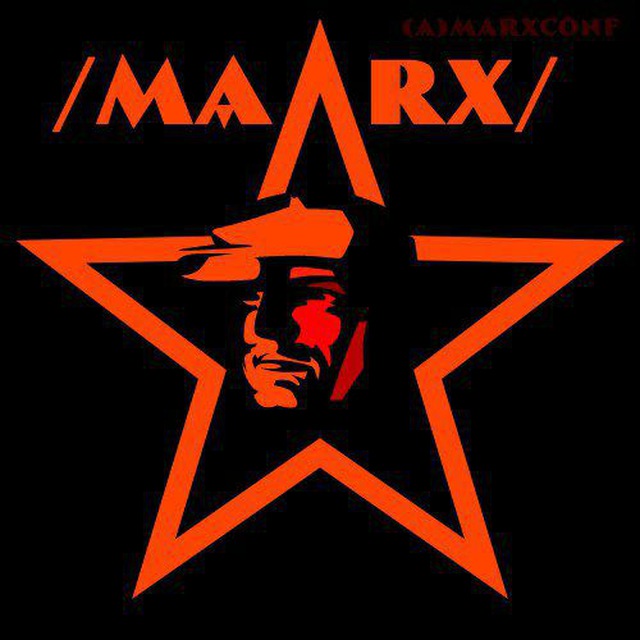d
Size: a a a
2021 November 26
Q
Китайцы настаивают на том, что их госкорпорации — абсолютно рыночные предприятия, такие же как и в других странах. Однако в таком случае, во-первых, они служили бы «дойной коровой» для частников и чиновников, перманентно создавая класс олигархии, чего, вообще говоря, за 40 лет реформ не наблюдается, во-вторых, лишали бы китайское государство возможности реализации инфраструктурных проектов гигантского масштаба, в которых задействованы порою десятки крупных корпораций, что как раз наблюдается все последние десятилетия. Когда государство решает что-нибудь построить, то после этого никто не принимает в учёт «частные интересы» госкомпаний, а первые секретари на местах руководят стройкой так, как будто все эти корпорации отданы им в распоряжение. А иногда и заставляют участвовать частника, вызывая его на ковёр с вопросом: «Ты что, не патриот, тебе прибыль дороже Родины?»
Поэтому, кажется, замыливание в идеологии этого противоречия говорит лишь о том, что КПК проявляла и проявляет тактическую хитрость, превознося на словах рынок, а втихаря занимаясь самым банальным директивным планированием, как минимум в рамках госсектора. Это не говоря о том, что многие крупные формально частные компании на деле подчиняются партии. Кстати, в 2002 г. чиновник Государственного статистического управления Китая в интервью «Синьхуа» проговорился, что директивное планирование всё ещё функционировало в пяти отраслях производства промышленной продукции.
<....>
Пленум 1993 г. окончательно превратил госпредприятия в коммерческие в том смысле, что они должны быть прибыльными в рамках рыночной конкуренции, а их непосредственное руководство должно быть самостоятельным. Из содержания решения пленума также можно сделать вывод, что «единая общенациональная система открытого рынка» должна создаваться в том числе посредством перетоков капитала через финансовые институты. После пленума последовала череда реформ налогового, банковского, валютного, внешнеторгового законодательства в соответствии с его решением. Эта либерализация положительно сказалась на притоке инвестиций.
«Левым» внутри и за пределами Китая, а также западным политикам, аналитикам и менеджерам казалось, что точка невозврата пройдена и «социализм с китайской спецификой» необратимо превращается в капитализм с китайской спецификой. На Западе пошла волна лицемерных публикаций и документальных фильмов о тяжести положения рабочего класса в Китае, его низком уровне жизни. Как будто при Мао Цзэдуне китайские рабочие работали по шесть часов на станках ЧПУ и не испытывали нужды.
Парадоксально, но о Китае одними и теми же красочными картинами ужасов пролетарского и крестьянского быта писали западные либералы и западные леваки. Кстати, всякого рода западные троцкисты в 1930-е точно так же вместе с либералами и консерваторами клеймили сталинский СССР за сверхэксплуатацию рабочих и трудности быта рабочих и колхозников. Удивительно, что КПК не использовала этой параллели и вообще никак не реагировала на потоки грязи и спекуляций по этому поводу, засунув голову в песок. Хотя, может быть, в позиции КПК проявилась как раз зрелость, потому что через 20 лет материальное положение трудящихся в Китае начало стремительно догонять таковое на Западе и теперь противники КПК об этом помалкивают. Леваки, либералы и консерваторы придумали новую «проблему» — теперь в Китае капитализм, потому что «растёт количество миллиардеров» и насаждается «цифровой гулаг». Правда, и то и другое зафиксировано такими «авторитетными источниками», как «Гардиан», «Форбс» и прочими вашингтонпостами с википедиями, но кому какое до этого дело, когда так сильна жажда обличения КПК? Что-то в этом есть синофобское, даже у леваков. Ведь когда читаешь старые портянки американских и европейских троцкистов о сталинском СССР, между строк то и дело проскакивает подсознательная мысль, что ну не может «лапотный Ивашка» построить великое здание светлого прекрасного социализма, теорию которого разработали культурные люди Франции и Германии. Вот и тут так же, читается некоторое презрение к Азии вообще и к китайцам в частности.
Поэтому, кажется, замыливание в идеологии этого противоречия говорит лишь о том, что КПК проявляла и проявляет тактическую хитрость, превознося на словах рынок, а втихаря занимаясь самым банальным директивным планированием, как минимум в рамках госсектора. Это не говоря о том, что многие крупные формально частные компании на деле подчиняются партии. Кстати, в 2002 г. чиновник Государственного статистического управления Китая в интервью «Синьхуа» проговорился, что директивное планирование всё ещё функционировало в пяти отраслях производства промышленной продукции.
<....>
Пленум 1993 г. окончательно превратил госпредприятия в коммерческие в том смысле, что они должны быть прибыльными в рамках рыночной конкуренции, а их непосредственное руководство должно быть самостоятельным. Из содержания решения пленума также можно сделать вывод, что «единая общенациональная система открытого рынка» должна создаваться в том числе посредством перетоков капитала через финансовые институты. После пленума последовала череда реформ налогового, банковского, валютного, внешнеторгового законодательства в соответствии с его решением. Эта либерализация положительно сказалась на притоке инвестиций.
«Левым» внутри и за пределами Китая, а также западным политикам, аналитикам и менеджерам казалось, что точка невозврата пройдена и «социализм с китайской спецификой» необратимо превращается в капитализм с китайской спецификой. На Западе пошла волна лицемерных публикаций и документальных фильмов о тяжести положения рабочего класса в Китае, его низком уровне жизни. Как будто при Мао Цзэдуне китайские рабочие работали по шесть часов на станках ЧПУ и не испытывали нужды.
Парадоксально, но о Китае одними и теми же красочными картинами ужасов пролетарского и крестьянского быта писали западные либералы и западные леваки. Кстати, всякого рода западные троцкисты в 1930-е точно так же вместе с либералами и консерваторами клеймили сталинский СССР за сверхэксплуатацию рабочих и трудности быта рабочих и колхозников. Удивительно, что КПК не использовала этой параллели и вообще никак не реагировала на потоки грязи и спекуляций по этому поводу, засунув голову в песок. Хотя, может быть, в позиции КПК проявилась как раз зрелость, потому что через 20 лет материальное положение трудящихся в Китае начало стремительно догонять таковое на Западе и теперь противники КПК об этом помалкивают. Леваки, либералы и консерваторы придумали новую «проблему» — теперь в Китае капитализм, потому что «растёт количество миллиардеров» и насаждается «цифровой гулаг». Правда, и то и другое зафиксировано такими «авторитетными источниками», как «Гардиан», «Форбс» и прочими вашингтонпостами с википедиями, но кому какое до этого дело, когда так сильна жажда обличения КПК? Что-то в этом есть синофобское, даже у леваков. Ведь когда читаешь старые портянки американских и европейских троцкистов о сталинском СССР, между строк то и дело проскакивает подсознательная мысль, что ну не может «лапотный Ивашка» построить великое здание светлого прекрасного социализма, теорию которого разработали культурные люди Франции и Германии. Вот и тут так же, читается некоторое презрение к Азии вообще и к китайцам в частности.
d
Переслано от dr_Zlov
"Если в I группе предприятий, с числом рабочих до 50 человек, частный сектор производил около ½ валовой продукции государственного сектора (соответственно 23,8 и 54,4% от объема группы), то во II группе (число рабочих от 51 до 200) — уже 1/20 объема производства государственной промышленности и 4% объема всей группы; в III и IV группах отношение частного сектора к государственному и его доля в общем объеме валовой продукции измерялась сотыми долями процента. Главную долю в выпуске продукции, количестве отработанного времени и мощности промышленных предприятий в последних группах, дававших около ¾ всей промышленной продукции СССР, занимала государственная и кооперативная промышленность, производившие 99—99,95% продукции этих групп."
Это на конец 1925 г.
Да, надо было НЭП не прекращать, частники поднимали страну как никогда(нет).
Это на конец 1925 г.
Да, надо было НЭП не прекращать, частники поднимали страну как никогда(нет).
d
Это из книги
"Переход к нэпу. Восстановление народного хозяйства СССР (1921—1925 гг.)"
История социалистической экономики СССР (2)
Коллектив авторов
#История
«История социалистической экономики СССР» в семи томах охватывает период от первых революционно-экономических преобразований после победы Великого Октября до создания и упрочения экономики развитого социализма. Такой обобщающий труд по истории советской экономики издается впервые.
«История социалистической экономики СССР» ставит своей целью исследовать практическое использование, воплощение в жизнь основных закономерностей построения социалистической экономики, освещает особенности их проявления в конкретных условиях Советской страны на определенных этапах социалистического строительства; в работе дается анализ практического использования социалистическим государством экономических законов социализма для успешного развития производительных сил и новых общественных отношений, создания материально-технической базы коммунизма.
Работа выполнена в Институте экономики АН СССР, в Отделе изучения экономической мысли и обобщения опыта развития социалистической экономики.
"Переход к нэпу. Восстановление народного хозяйства СССР (1921—1925 гг.)"
История социалистической экономики СССР (2)
Коллектив авторов
#История
«История социалистической экономики СССР» в семи томах охватывает период от первых революционно-экономических преобразований после победы Великого Октября до создания и упрочения экономики развитого социализма. Такой обобщающий труд по истории советской экономики издается впервые.
«История социалистической экономики СССР» ставит своей целью исследовать практическое использование, воплощение в жизнь основных закономерностей построения социалистической экономики, освещает особенности их проявления в конкретных условиях Советской страны на определенных этапах социалистического строительства; в работе дается анализ практического использования социалистическим государством экономических законов социализма для успешного развития производительных сил и новых общественных отношений, создания материально-технической базы коммунизма.
Работа выполнена в Институте экономики АН СССР, в Отделе изучения экономической мысли и обобщения опыта развития социалистической экономики.
ㅇㅁ
Ахххахаа сука...три сообщения выше
Согласно данным рейтинга China Rich List журнала шанхайского исследовательского института Hurun, Китай стал мировым лидером по числу долларовых миллиардеров.
Согласно данным рейтинга China Rich List журнала шанхайского исследовательского института Hurun, Китай стал мировым лидером по числу долларовых миллиардеров.
По состоянию на начало 2021 года количество миллиардеров в Китае составляло 1058, увеличившись за год на 259 человек. Число миллиардеров в Китае больше, чем в США, Индии и Германии вместе взятых. В целом в мире насчитывается 3 тыс. 228 долларовых миллиардеров.
Богатейшим человеком Китая является владелец крупнейшего в стране производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань, его состояние оценивается в 550 млрд юаней ($85 млрд). Второе место занимает основатель Tencent Holdings Ltd. Пони Ма (480 млрд юаней), третье — основатель оператора платформы торговли сельскохозяйственной продукцией Pinduoduo Inc. Колин Хуан (450 млрд юаней). Отмечается, что основатель Alibaba Group Holding Ltd. Джек Ма потерял статус богатейшего человека Китая и опустился на четвертое место в рейтинге, так как состояние Ма и его семьи за минувший год увеличилось на 22%, до 360 млрд юаней ($55,6 млрд).
Для всякого здравомыслящего человека, имеющего связь с действительностью, давно является известным тот факт, что современный Китай не имеет никакого отношения к социализму кроме нескольких символических атрибутов. Китай сегодня — это крупная империалистическая держава, усиливающая свое влияние в мире и конкурирующая в этом с другими крупными империалистами, в особенности с США.
Усиление эксплуатации своих трудящихся, активный вывоз капитала в более отсталые капиталистические страны, увеличение рынков сбыта, втягивание слабых стран в долговую кабалу и наращивание военной мощи в экспансионистских целях — таковы современные черты китайского капитализма под красной маской.
Заявления коммунистической, лишь по названию партии Китая, о победе над бедностью, об увеличении уровня жизни — есть не что иное, как манипуляции данными, на которые способны буржуазные власти любой страны. Аргументы же защитников “социализма с китайской спецификой”, оправдывающих империалистического гиганта, играющие на руку эксплуатации рабочих Китая и зависимых от него стран, состоят в апелляции к богатству и состоятельности некоторых слоев рабочей аристократии и мелкой буржуазии, разбиваются о новости о росте сверхприбылей частных собственников, ибо их состояния растут не из воздуха, а благодаря усилению гнета финансового капитала над миллионами простых рабочих.
Современный Китай является закономерным итогом победы буржуазных сил и в китайской компартии и обществе в целом, однако это произошло задолго до смерти Мао Цзэдуна и свержения его соратников. Сама ревизия марксизма, организованная правым крылом КПК во главе с Цзэдуном, помогла разложить, вытравить большевистские силы из рабочей партии, после чего объявленная союзником пролетариата и крестьянства буржуазия внедрилась в государственный аппарат КНР, постепенно уничтожив основные завоевания революции. Так Китай начал свой путь к ускоренному экономическому росту через окончательный переход к империализму в 90-е годы прошлого века.
Однако, такое положение дел, несмотря на все репрессивные меры государства, не является безнадежным для китайских рабочих, имеющих огромный опыт борьбы и являющихся сегодня самым крупным пролетарским отрядом на планете. Только сбросив своих “социалистических” миллиардеров, китайские трудящиеся смогут обратить могущественную экономику на построение действительно социалистического общества, свободного от эксплуатации и нищеты.
Источники: Росбалт — “Китай стал мировым лидером по числу долларовых миллиардеров” 02.03.2021,
РБК — “Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае” 25.02.2021
Китаймиллиардеры
Согласно данным рейтинга China Rich List журнала шанхайского исследовательского института Hurun, Китай стал мировым лидером по числу долларовых миллиардеров.
Согласно данным рейтинга China Rich List журнала шанхайского исследовательского института Hurun, Китай стал мировым лидером по числу долларовых миллиардеров.
По состоянию на начало 2021 года количество миллиардеров в Китае составляло 1058, увеличившись за год на 259 человек. Число миллиардеров в Китае больше, чем в США, Индии и Германии вместе взятых. В целом в мире насчитывается 3 тыс. 228 долларовых миллиардеров.
Богатейшим человеком Китая является владелец крупнейшего в стране производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань, его состояние оценивается в 550 млрд юаней ($85 млрд). Второе место занимает основатель Tencent Holdings Ltd. Пони Ма (480 млрд юаней), третье — основатель оператора платформы торговли сельскохозяйственной продукцией Pinduoduo Inc. Колин Хуан (450 млрд юаней). Отмечается, что основатель Alibaba Group Holding Ltd. Джек Ма потерял статус богатейшего человека Китая и опустился на четвертое место в рейтинге, так как состояние Ма и его семьи за минувший год увеличилось на 22%, до 360 млрд юаней ($55,6 млрд).
Для всякого здравомыслящего человека, имеющего связь с действительностью, давно является известным тот факт, что современный Китай не имеет никакого отношения к социализму кроме нескольких символических атрибутов. Китай сегодня — это крупная империалистическая держава, усиливающая свое влияние в мире и конкурирующая в этом с другими крупными империалистами, в особенности с США.
Усиление эксплуатации своих трудящихся, активный вывоз капитала в более отсталые капиталистические страны, увеличение рынков сбыта, втягивание слабых стран в долговую кабалу и наращивание военной мощи в экспансионистских целях — таковы современные черты китайского капитализма под красной маской.
Заявления коммунистической, лишь по названию партии Китая, о победе над бедностью, об увеличении уровня жизни — есть не что иное, как манипуляции данными, на которые способны буржуазные власти любой страны. Аргументы же защитников “социализма с китайской спецификой”, оправдывающих империалистического гиганта, играющие на руку эксплуатации рабочих Китая и зависимых от него стран, состоят в апелляции к богатству и состоятельности некоторых слоев рабочей аристократии и мелкой буржуазии, разбиваются о новости о росте сверхприбылей частных собственников, ибо их состояния растут не из воздуха, а благодаря усилению гнета финансового капитала над миллионами простых рабочих.
Современный Китай является закономерным итогом победы буржуазных сил и в китайской компартии и обществе в целом, однако это произошло задолго до смерти Мао Цзэдуна и свержения его соратников. Сама ревизия марксизма, организованная правым крылом КПК во главе с Цзэдуном, помогла разложить, вытравить большевистские силы из рабочей партии, после чего объявленная союзником пролетариата и крестьянства буржуазия внедрилась в государственный аппарат КНР, постепенно уничтожив основные завоевания революции. Так Китай начал свой путь к ускоренному экономическому росту через окончательный переход к империализму в 90-е годы прошлого века.
Однако, такое положение дел, несмотря на все репрессивные меры государства, не является безнадежным для китайских рабочих, имеющих огромный опыт борьбы и являющихся сегодня самым крупным пролетарским отрядом на планете. Только сбросив своих “социалистических” миллиардеров, китайские трудящиеся смогут обратить могущественную экономику на построение действительно социалистического общества, свободного от эксплуатации и нищеты.
Источники: Росбалт — “Китай стал мировым лидером по числу долларовых миллиардеров” 02.03.2021,
РБК — “Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае” 25.02.2021
Китаймиллиардеры
ㅇㅁ
Сука прямо конченный блять ...
ㅇㅁ
Здесь есть то что я бы поставил под вопрос ...
Написано: государственная и кооперативная ....
Вся фишка здесь заключается в том, что кооперативная это частная, даже если она подчиняется требованиям Госплана ...
Если есть файл кинь почитать пожалуйста.
Написано: государственная и кооперативная ....
Вся фишка здесь заключается в том, что кооперативная это частная, даже если она подчиняется требованиям Госплана ...
Если есть файл кинь почитать пожалуйста.
ㅇㅁ
Очень спасибо.
d
ГК
И поэтому коммунизм как никогда близок!