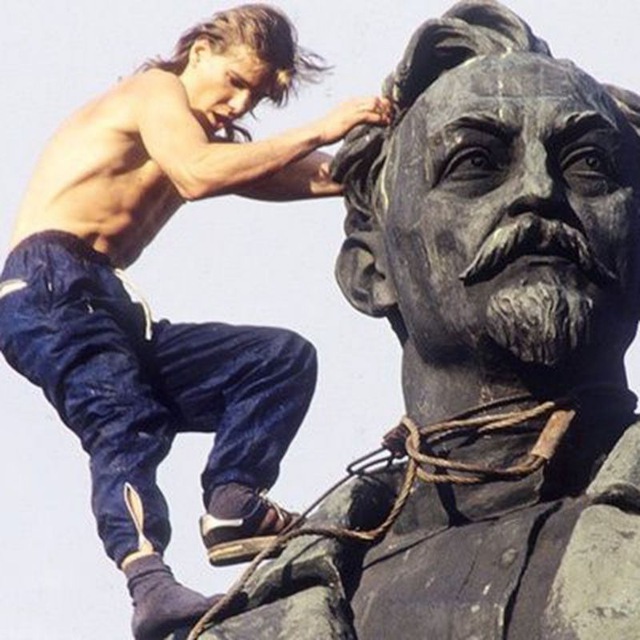D
Size: a a a
2019 December 28
Заступиться за слабого
D
Просто войны 19 века и 20 века это 2 большие разницы
AH
И тот же гениальный Витте, убедил Николя принять Конституцию 1905 года
Этот мудак как раз и слил переговоры по итогам Русско-Японской.
D
Я считаю русско японскую войну которую развязала Россия виной ещё молодого слишком Николая Второго
D
Абсолютно в этом убежден
D
Россия её с стреском проиграла
D
Потому что Николай читал японцев дикими обезьянами
D
Возвращаясь к пепвпй мировой, если понимать как она происходила, то понятен Сталин
AH
Доводы против
Православный историк Д. В. Поспеловский в качестве аргумента против канонизации указывал на свидетельство знавших государя офицеров о его «удивительно безучастном» отношении к массовым человеческим жертвам в Первой мировой войне: «такие ли ещё погибали, обойдемся с другими, ещё хватит»[19]. По комментариям опубликовавшего дневники императора историка К. Ф. Шацилло, убийство очередной кошки (истреблением которых Николай II развлекался в отсутствие более подходящей для охоты живности), было для Николая важнее, чем рассказ вернувшегося с Русско-японской войны приближённого[20].
Д. В. Поспеловский в качестве довода против канонизации ссылался на «колоссальный удар по народной вере в царя и сакральность монархии» и отождествлявшейся с ними «государственной Церкви» вследствие жестокости царя в подавлении революции, расправах с рабочими беспорядками, крестьянскими бунтами и пр[21].
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) последовательно и принципиально выступал против канонизации Николя II, считая его государственным изменником, поскольку, по мнению митрополита, император обладал всей полнотой власти, включая применение силы «вплоть до лишения жизни», чтобы усмирить восставших, но не сделал этого, чем способствовал распаду страны. А на Архиерейском Соборе 1997 года Кутепов заявлял, что считает Николая II ответственным за смерть российских новомучеников, поскольку тот «в здравом уме и твёрдой памяти» отрёкся от престола.[22].
Гибель императора Николая II и членов его семьи не была мученической смертью за Христа, а лишь политической репрессией[23].
Неудачная государственная и церковная политика императора, в том числе такие события, как трагедия на Ходынке, Кровавое воскресенье и Ленский расстрел и крайне неоднозначная деятельность Григория Распутина.[источник не указан 845 дней]
Активное движение за канонизацию царской семьи в 1990-е годы носило не духовный, а политический характер[3][24].
Профессор МДА А. И. Осипов: «Ни святой Патриарх Тихон, ни святой митрополит Петроградский Вениамин, ни святой митрополит Крутицкий Пётр, ни святой митрополит Серафим (Чичагов), ни святой архиепископ Фаддей, ни святой архиепископ Иларион (Троицкий), который, без сомнения, вскоре будет причислен к лику святых, ни другие ныне прославленные нашей Церковью иерархи, новомученики, знавшие значительно больше и лучше, чем мы теперь, личность бывшего Царя — никто из них ни разу не высказал мысли о нём, как святом страстотерпце (а в то время об этом ещё можно было заявить во весь голос)»[3]. По его мнению «религиозность царской четы при всей её внешне традиционной православности носила отчетливо выраженный характер интерконфессионального мистицизма»[3].
По мнению Д. В. Поспеловского подобно тому, как призыв Карловацкого собора в 1921 году к восстановлению на престоле дома Романовых привел к расколу в Зарубежье[уточнить], решение о канонизации могло способствовать разделению Церкви по образовательному признаку: интеллигенция (включая часть духовенства) — по одну сторону, менее грамотные слои — по другую[25].
Православный историк Д. В. Поспеловский в качестве аргумента против канонизации указывал на свидетельство знавших государя офицеров о его «удивительно безучастном» отношении к массовым человеческим жертвам в Первой мировой войне: «такие ли ещё погибали, обойдемся с другими, ещё хватит»[19]. По комментариям опубликовавшего дневники императора историка К. Ф. Шацилло, убийство очередной кошки (истреблением которых Николай II развлекался в отсутствие более подходящей для охоты живности), было для Николая важнее, чем рассказ вернувшегося с Русско-японской войны приближённого[20].
Д. В. Поспеловский в качестве довода против канонизации ссылался на «колоссальный удар по народной вере в царя и сакральность монархии» и отождествлявшейся с ними «государственной Церкви» вследствие жестокости царя в подавлении революции, расправах с рабочими беспорядками, крестьянскими бунтами и пр[21].
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) последовательно и принципиально выступал против канонизации Николя II, считая его государственным изменником, поскольку, по мнению митрополита, император обладал всей полнотой власти, включая применение силы «вплоть до лишения жизни», чтобы усмирить восставших, но не сделал этого, чем способствовал распаду страны. А на Архиерейском Соборе 1997 года Кутепов заявлял, что считает Николая II ответственным за смерть российских новомучеников, поскольку тот «в здравом уме и твёрдой памяти» отрёкся от престола.[22].
Гибель императора Николая II и членов его семьи не была мученической смертью за Христа, а лишь политической репрессией[23].
Неудачная государственная и церковная политика императора, в том числе такие события, как трагедия на Ходынке, Кровавое воскресенье и Ленский расстрел и крайне неоднозначная деятельность Григория Распутина.[источник не указан 845 дней]
Активное движение за канонизацию царской семьи в 1990-е годы носило не духовный, а политический характер[3][24].
Профессор МДА А. И. Осипов: «Ни святой Патриарх Тихон, ни святой митрополит Петроградский Вениамин, ни святой митрополит Крутицкий Пётр, ни святой митрополит Серафим (Чичагов), ни святой архиепископ Фаддей, ни святой архиепископ Иларион (Троицкий), который, без сомнения, вскоре будет причислен к лику святых, ни другие ныне прославленные нашей Церковью иерархи, новомученики, знавшие значительно больше и лучше, чем мы теперь, личность бывшего Царя — никто из них ни разу не высказал мысли о нём, как святом страстотерпце (а в то время об этом ещё можно было заявить во весь голос)»[3]. По его мнению «религиозность царской четы при всей её внешне традиционной православности носила отчетливо выраженный характер интерконфессионального мистицизма»[3].
По мнению Д. В. Поспеловского подобно тому, как призыв Карловацкого собора в 1921 году к восстановлению на престоле дома Романовых привел к расколу в Зарубежье[уточнить], решение о канонизации могло способствовать разделению Церкви по образовательному признаку: интеллигенция (включая часть духовенства) — по одну сторону, менее грамотные слои — по другую[25].
Прямо парад дегенератов.
AH
Слуг, кстати, не канонизировали
Потому что слуги попросту под раздачу попали.
AH
Николай 1 конечно же
Один из лучших русских правителей за всю историю.
AH
В некоторых церковых докфильмах и книжках о нём говорится тоже как о светоче мудрости, который понимал истину - русский народ не готов к отмене крепостного права, его надо бы под плетью ещё леток 100 подержать
Как показала последующая практика - эта мысль недалека от истины. Правда, судя по деятельности Николая, он этой позиции не придерживался.
AH
Я считаю русско японскую войну которую развязала Россия виной ещё молодого слишком Николая Второго
>которую развязала Россия
Нет.
Нет.
AH
Потому что Николай читал японцев дикими обезьянами
И в общем-то не сильно ошибался. Просто у диких обезьян оказалась хорошая крыша.
D
То есть в основном солдаты сидели в траншеях, в окопах, война была позиционной с фронтами, которые нельзя прорвать. Наступление на оборонительные позиции, оснащённые современным оружием, это просто мясорубка, европейцы не могли так сорить миллионами жизней солдат. Поэтому Сталин создал армию рабов, для прорыва такой обороны и захвата Европы, чтобы закидывать тупо трупами.
AH
То есть в основном солдаты сидели в траншеях, в окопах, война была позиционной с фронтами, которые нельзя прорвать. Наступление на оборонительные позиции, оснащённые современным оружием, это просто мясорубка, европейцы не могли так сорить миллионами жизней солдат. Поэтому Сталин создал армию рабов, для прорыва такой обороны и захвата Европы, чтобы закидывать тупо трупами.
Вообще-то эту армию создал Троцкий.
AH
Ну и не он один. Но Коба тогда был уже не сявка, но ещё и не наверху пищевой цепочки.
D
Я говорю о периоде с 27 года
D
Когда он стал превращать страну в один большой цех по производству наступательного вооружения для захвата мира
D
Они же реально так и воевали