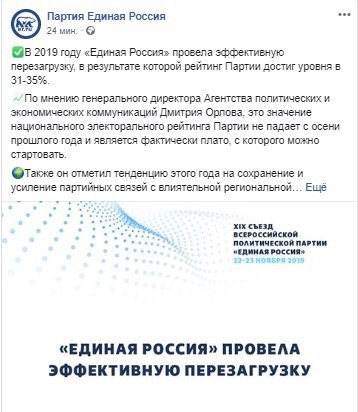В шестой элегии второй книги Amores Овидий оплакивает попугая Коринны.
Это, разумеется, игра на многих уровнях: поклон и следование Катуллу с воробьём Лесбии, упражнение на строгую форму, которое мгновенно станет классикой самого мраморного образца и будет воспроизведено в таковом качестве не раз, — в частности в шекспировской поэме "Феникс и голубь", где тоже птичек скликают на погребальную церемонию, — часть головокружительного сооружения, коим являются любовные элегии вообще.
Дело в том, что у героини и адресата юного юриста Овидия, плюнувшего, слава богам, на карьеру во имя литературы, у хрестоматийной Коринны нет столь же очевидного прототипа, как у катулловской, скажем, Лесбии. Нет Клодии, в которую мы можем ткнуть пальцем, нет болезненной и горячей личной истории за текстом — безусловно, есть толпа девок, есть разнообразный опыт весело живущего балбеса, но пуще прочего есть великолепное обобщение, лепка универсальных масок молодого героя и молодой героини, которые могут примерить в том Риме примерно все. Так может быть со всеми, с любым — так могло бы быть и со мной, зеркало тем и прекрасно, что отражает всякого, кто в него взглянет.
Но с попугаем чуть иное.
Попугай, уроженец далёких восточных земель, чьи крылья соперничали зеленью с изумрудами, а клюв был окрашен в пунцовый и шафрановый, был говорящим. Единственный среди птиц он подражал человеческим голосам, ему была подвластна внятная речь, он ел меньше, чем говорил, и даже перед смертью молвил: "Коринна, прощай"... Corinna, vale в подлиннике, что может с тем же успехом означать и "Коринна, здравствуй", в смысле, будь здорова — приказал долго жить, проще говоря. И теперь, под Элизейским холмом, перелагает своими словами щебет благочестивых птиц иного мира.
Словно поэт среди людей попугай среди птиц был наделён даром говорения — но произнести мог лишь то, чему его обучили, что затвердил с чьего-то голоса. Чужими словами, обрывками цитат, однажды сказанным кем-то мы облекаемся, как ручейник панцирем, складываем себя из заёмного материала, надеясь в заимствовании быть точнее, чем в собственном поиске. Пустите, простите, не буду — пиастры, пиастры — кар-рррамба, кор-рррида и чёр-рррт побер-ррри — попка дур-рррак... пока однажды тебя не сажают под стеклянный колпак и не начинают откачивать в научных целях воздух, чтобы продемонстрировать, что живое существо без него не может. Назовём это по-старинке "естественной философией".
Septima lux venit non exhibitura sequentem,
et stabat vacuo iam tibi Parca colo.
Дурак, попка дурак, он сам много раз это повторял, он это не то чтобы знает, подражать можно хоть дверному звонку, хоть сигнализации соседской машины под окном, что чаще слышишь, то и правда. Но я не могу отделаться от мысли, что а-ах и зелёный попугай Овидия и распластавшаяся без дыхания корелла Джозефа Райта суть одна и та же злополучная птица, которая могла бы, как стерновский скворец, жаловаться, что не может выйти, но не обучена.
Бедное двуногое в перьях, комок измученной плоти, выкрикивающий любые известные слова, чтобы поняли, что нечем дышать, чтобы спасли. Мы смотрим на него и неохотно понимаем, что перья, в общем, можно и не брать в расчёт.