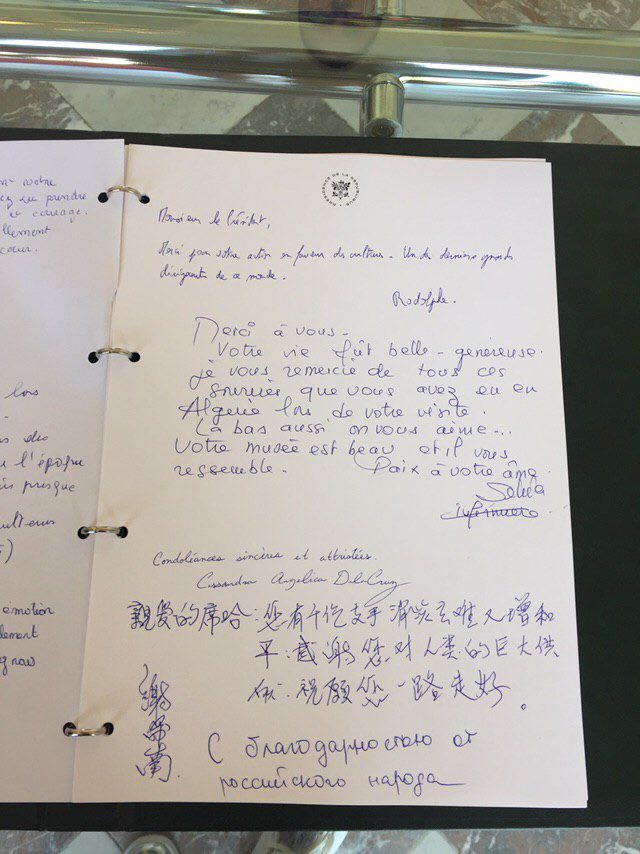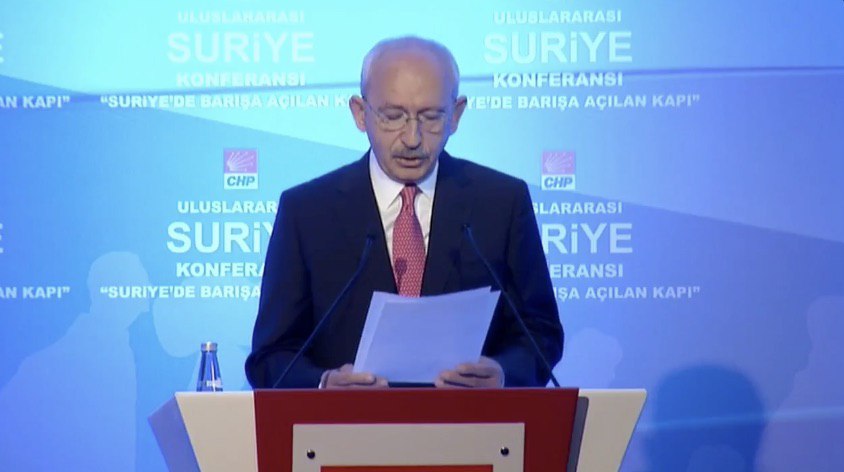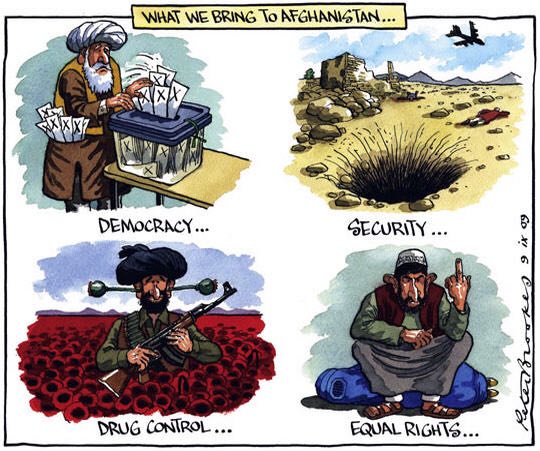На два поколения, которые застали поздний Советский Союз спектакли и фильмы Марка Захарова повлияли на меньше, чем рок, Битлз, Булгаков, редкий подпольный Сальвадор Дали, первые летние выезды в Крым, олимпийская пепси-кола, Высоцкий на пластинках и кассетах, бог знает как доставшиеся кроссовки, долгие летние вечера, запах нагретой пластмассы от телефонной трубки, электричка, дачная сирень. Не только вечная «Юнона и Авось» (и позабытая «Звезда и смерть Хоакино Мурьеты»), оправдавшие другую музыку официальной сценой. А больше фильмы, которые учили жить в остановившимся времени, помогали ответить на вопрос, как устроить жизнь, если то, что вокруг навсегда. Ведь неподвижное кажется вечным. Нало устроить ее, как тот самый Мюнгхаузен: держать твёрдую ироническую дистанцию, создавать параллельную реальность, настолько отличную от общей, что могут принять за безумного, и оттуда тормошить мир, как барон или граф Калиостро, шутить, дразнить и по-возможности любить их всех. Побеждать волю равнодушного сказочника обыкновенным чудом. Не превращаться в медведя благодаря формуле любви - она же формула выживания. Это было идеальное кино неподвижного времени. Потом оно задвигалось, и формула любви перестала работать. Борьба с драконом всегда несколько более плакатна, чем утончения игра с ним же в прятки и умолчания. Но время течёт нелинейно, оно замедляется, в нем есть и заводи и запруды, двубортное и накладные карманы, тонкая игра и умолчания регулярно в моде. Хотя навсегда осевшего после спектаклей и фильмов Марка Захарова в языке, в мимике, в жесте русского человека, оставшихся на слуху мелодий больше чем достаточно для вечности, в которую мы его сегодня провожаем.