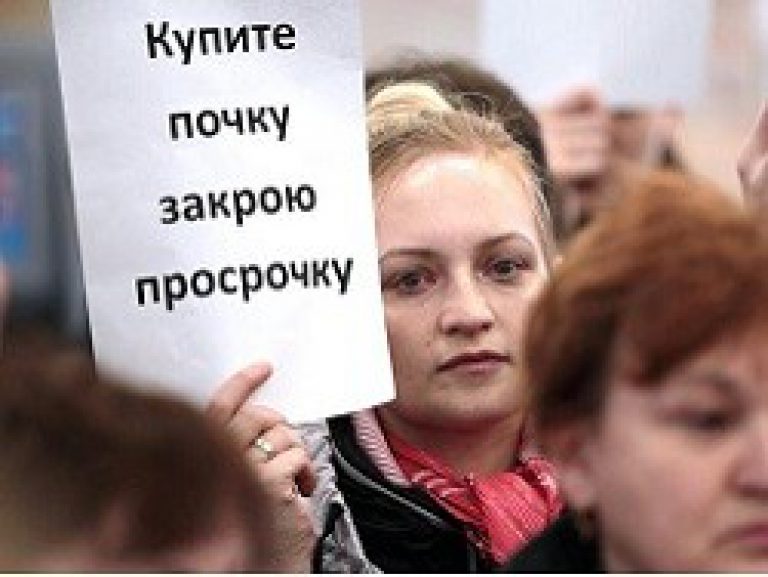Есть ощущение некоторого недопонимания про стратегическую автономию ЕС, поэтому поясним коротенько:
1. Идея этой автономии в сегодняшнем ее понимании появилась задолго до Трампа и началось все, по сути, со слов того же Байдена: «America will do more, but America will — that’s the good news. The bad news is America will ask for more from our partners, as well». Сейчас европейцы ждут от новой администрации чего-то подобного, и поэтому тема стала для них так актуальна после американских выборов.
2. В начале прошлого десятилетия первыми демонстрировать свои автономные возможности бросились как раз Британия с Францией — в ливийском конфликте. Германия тогда по настоянию Вестервелле заняла нейтральную позицию, чем вызвала у союзников серьезные вопросы. Но как только власть в Берлине в конце 2013-го сменилась, все встало на свои места — немцы сформировали «мюнхенский консенсус» и заявили, что тоже готовы брать на себя больше ответственности в международных делах.
3. На треке Евросоюза про реформу ОПБО начали говорить примерно в 2011-м, а детальная ее концепция была готова к началу 2015-го — и про стратегическую автономию там тоже было. Недавно вступивший в должность Юнкер в этой связи на страницах «Вельт» громко заявил о необходимости создания армии ЕС, что было, конечно, чистым пиаром, и дело перешло в плоскость практической реализации: Глобальная стратегия, PESCO, Европейский оборонный фонд и так далее. К Трампу, кстати, это тоже не имело никакого отношения — все планировалась и готовилось гораздо раньше оглашения результатов выборов 2016-го.
4. Все эти процессы никогда не нацеливались ни на создание альтернативы НАТО ни, тем более, на разрыв трансатлантических отношений. «Автономия» не означает «выход». Основной смысл — перераспределить нагрузку, чтобы позволить США высвободить ресурсы для противостояния с Китаем, которое явно просматривалось уже более десяти лет назад. Все это постоянно и четко проговаривалось, в том числе специально для восточных стран ЕС, которые на все эти движения в ОПБО смотрели с подозрением. Британию к тому времени уже можно было не принимать в внимание — она со своим референдумом определилась, чем упростила задачу Берлину и Парижу.
5. Германия с Францией выступили главными «моторами» оборонной интеграции, но во взглядах на процесс они существенно расходятся, что стало ясно еще на этапе подготовки PESCO. Для Берлина ОПБО — это, в первую очередь, не про войну, а именно про интеграцию, к тому же в подходах немцев все еще сказывается их «культура сдержанности». А вот для Парижа — как раз про войну, причем вполне конкретную — в Африке. Поэтому после того как у французов не получилось реализовать свой подход к PESCO, появилась Европейская интервенционная инициатива, а Макрон начал настойчиво предлагать сформировать общеевропейскую стратегическую культуру. И весь этот спор продолжается до настоящего момента, но он, опять же, совсем не про разрыв трансатлантических отношений.
6. Трамп, конечно, сбил европейцев с толку, хотя его требования к ним, в том числе и в части оборонного бюджета, по сути, мало чем отличались от требований Обамы — только подходы были другими. Но в ЕС считали, что они для США партнеры, а оказалось, что непонятно, кто они теперь и чего в следующий момент ждать от Вашингтона: может, он и правда устроит им «выход», в смысле — США из НАТО. Про стратегическую автономию тогда действительно заговорили как про полную самостоятельность, но по крайней мере в Берлине все это слишком всерьез не воспринимали, хотя тему европейского ЯО на всякий случай на экспертном уровне обсудили.
7. Сейчас, по сути, все возвращается в старую колею, но только европейцы уже вполне «в тонусе» — благодаря Трампу и общей ситуации в мире. Поэтому они продолжат делать то, что делают сейчас — вмешиваться в конфликты по периметру своих границ, наращивать оборонный бюджет, интегрировать ВС и военпром. Но только теперь все пойдет активнее, увереннее, а также в согласии и при поддержке США. Германия же ко всему этому продолжит избавляться от своей «культуры сдержанности», в том числе и в отношениях с Россией.