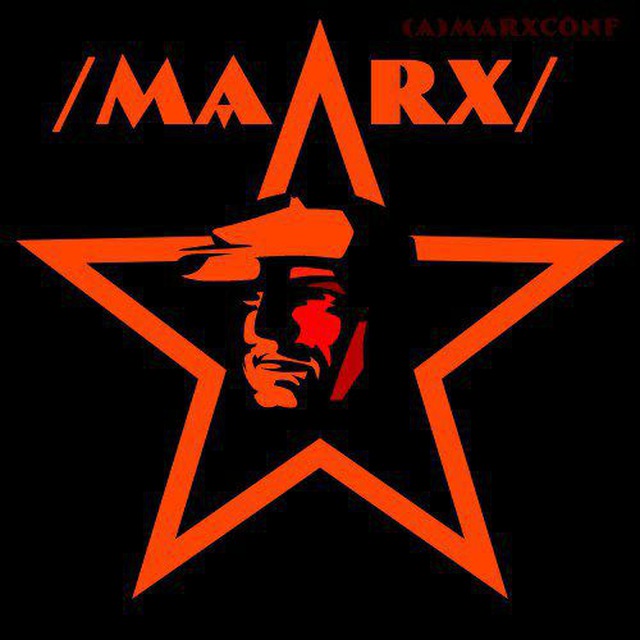ГК
Size: a a a
2021 May 29
А, ну если не открывал, тогда ладно, тогда я сдаюсь.
ГК
Ну как учебник общей ничего себе, тем более это 30 лет назад было и из расхожих вариантов был разве только Немов. Понятное дело, я не только Рубинштейна читал. По крайней мере там какое-то систематическое изложение наличествует,уже можно отталкиваться.
ГК
Да, разумеется. Если бы была необходимость рассказать о про инстинкты, нужно было бы обращаться к монографиям Халла, Торндайка, Скиннера. У американцев есть толковые учебники того периода, сейчас я авторов не вспомню, могу порыться в заметках. Основная фишка в том, что они были убеждены сначала в инстинктивных основах человеческого поведения, но вынуждены были пересмотреть свои взгляды под влиянием экспериментов. Потом, правда, их наоборот в энвайроментализм качнуло, но это уже другая история.
ВГ
Кстати, для позитивиста Рассела вполне себе сбалансированная книженция, к тому же легко читается. Новичкам в фейласафии вполне можно рекомендовать
ГК
Я честно говоря по философии не помню ни одного учебника чтобы читал, все довольно бессистемно. У нас курс философии вело аж четыре разных препода, каждый был знатным фриком, было в целом очень весело. Самый весёлый дядька принимал у нас экзамен, если был сдан английский и он видел пятерку в зачатке, он начинал тебя спрашивать на английском. Если ты не мог ответить, этот ебантяй зачеркивал твою пятерку прямо в зачетке )(
AS
аналогично, философию надо изучать самостоятельно, а не с подачи препода. У нас препод на уроках по философии вообще рассказывал о том, как ездил на рыбалку. То что из его лекций я вынес, так это его воззрения на гедонизм. Порой кажется, что преподаватели философии, хоть сами и знают материал, подавать его студентам просто боятся. И .. если подумать есть чего бояться.
ГК
Я считаю что преподаватель может играть и положительную роль, он должен как-то выстраивать курс, давать ему оформленность, но это мало кому дается.
ВГ
Парадокс в том, что у нас в шараге молодой препод, который вел семинары, охуеннно преподавал - было много интерактивов - типа игр аля доказательств бытия бога, построения своих утопий/антиутопий и т.д Наверное, лучший препод за всю историю обучения (юридические предметы в принципе нельзя преподавать интересно, но это мое имхо), а вот преподша-лектор была пиздец какой нудной, но только сейчас я понял, что она преподавала максимально научную философию, близкую к диамату. Но к ней я бы не пришел без первого препода, который в принципе меня во всем этом и заинтересовал, хоть и преподавал эклетику и ту самую "любовь к знанию" в широком смысле
AS
тоже об этом подумал пока коммент писал, мол преподавать надо через подачу источников и литературы, а не личных взглядов. У нас одно время был замечательный препод по философии, именитый не буду называть фамилию, его уроки философии были скорее историческим экскурсом, нежели философией. Он рассказывал о формировании древних цивилизаций и прочей мелочевки. Впрочем, как и предыдущий препод, особо нам он ничего не советовал, разве что Платона с его государством и ... и что то еще что я точно читал но вспомнить не могу, даже через гугл. Ну и ладно.
А точно - так говорил заратустра от Ницше
Любопытна будет история того, как я у него зачет получил. Так вот, ничего я ему не отвечал и не пересказывал. Просто помогал ему с колонками и оборудованием, которое он приносил на лекции. Лекции у него были большие группы на 3 вроде нас собиралось. Весь костюм в пыли извозил...
А точно - так говорил заратустра от Ницше
Любопытна будет история того, как я у него зачет получил. Так вот, ничего я ему не отвечал и не пересказывал. Просто помогал ему с колонками и оборудованием, которое он приносил на лекции. Лекции у него были большие группы на 3 вроде нас собиралось. Весь костюм в пыли извозил...
ГК
Да, история философии вместо философии это, блин, вообще беда. Бывает что современную философию просто отрицают, или даже не знакомы вовсе. У нас даже про разделение на континентальную и аналитическую традиции ничего не было. После войны так и вовсе философии типа не было. Про постструктурализм ни слова.
d
Инстинкт это не про получение удовольствия от выполненного действия.
Это БЕЗУСЛОВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ определённого действия на определённый ВНЕШНИЙ стимул. Ещё требуетсяналичии определённых обстоятельств - возраст, голод, половая пора например - но все они тоже объективны и не зависят от самого субъекта.
Инстинкт соотносится с рефлексом как поход в горы с одним шагом, и только неуч не читавший ничего по теме моложе 100 лет уравнивает их.
Хотя даже тогда их не уравнивали(предки вообще не тупые были), так что вообще хз где ты свою точку зрения взял.
Это БЕЗУСЛОВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ определённого действия на определённый ВНЕШНИЙ стимул. Ещё требуетсяналичии определённых обстоятельств - возраст, голод, половая пора например - но все они тоже объективны и не зависят от самого субъекта.
Инстинкт соотносится с рефлексом как поход в горы с одним шагом, и только неуч не читавший ничего по теме моложе 100 лет уравнивает их.
Хотя даже тогда их не уравнивали(предки вообще не тупые были), так что вообще хз где ты свою точку зрения взял.
Q
Советская уравниловка корнями уходила в общинный крестьянский коммунизм, о котором писалось в первых главах. Но это равенство было разумным, население его в основном приняло.
Дж. Кейнс, работавший тогда в СССР, в статье «Беглый взгляд на Россию» (1925) писал: «Я не считаю, что Русский Коммунизм изменяет или стремится изменить природу человека, что он делает евреев менее жадными, а русских менее экстравагантными, чем они были… Но в будущей России, видимо, карьера “делающего деньги” человека просто невозможна как доступная в силу своей открытости для респектабельного человека сфера деятельности, как и карьера вора-взломщика либо стремление научиться подлогам и хищениям. Каждый должен работать на общество – гласит новое кредо – и, если он действительно выполняет свой долг, общество его всегда поддержит. Подобная система не ставит целью понижать доходы, уравнивая их, – по крайней мере, на нынешней стадии. Толковый и удачливый человек в Советской России имеет более высокие доходы и живет благополучнее, нежели все другие люди».
Кейнс писал это в 1925 г., а ведь тот, первый этап советского проекта был, конечно, гораздо более уравнительным, нежели 70-е годы. Тогда, например, действовал т. н. «партмаксимум» – обязанность члена партии сдавать государству доходы, превышающие определенный максимум. Устройство народного хозяйства СССР как хозяйства одной большой семьи обеспечило ему огромную мобильность всей системы производственных ресурсов, несравнимую с тем, что мог обеспечить рынок с его стихийными механизмами.
Это отличие от рыночной экономики было столь разительно, что западная методология экономического анализа не могла делать стандартных измерений параметров советского хозяйства. Но с 1960-х годов общество стало изменяться, и эти процессы не были поняты. Когда произошла смена поколений, так что люди молодого и среднего возраста просто не представляли себе, что такое голод и недоедание, на советское равенство начались атаки (сначала в элите).
Мао Цзэдун как-то сказал в беседе с Андре Мальро: «Когда существует голод, то стремление к равенству приобретает силу религиозного чувства». Тот, кто хотя бы военное детство провел как обычный советский ребенок, не клюнул бы на призыв отказаться от равенства. Но мы живем уже в другом времени.
Дж. Кейнс, работавший тогда в СССР, в статье «Беглый взгляд на Россию» (1925) писал: «Я не считаю, что Русский Коммунизм изменяет или стремится изменить природу человека, что он делает евреев менее жадными, а русских менее экстравагантными, чем они были… Но в будущей России, видимо, карьера “делающего деньги” человека просто невозможна как доступная в силу своей открытости для респектабельного человека сфера деятельности, как и карьера вора-взломщика либо стремление научиться подлогам и хищениям. Каждый должен работать на общество – гласит новое кредо – и, если он действительно выполняет свой долг, общество его всегда поддержит. Подобная система не ставит целью понижать доходы, уравнивая их, – по крайней мере, на нынешней стадии. Толковый и удачливый человек в Советской России имеет более высокие доходы и живет благополучнее, нежели все другие люди».
Кейнс писал это в 1925 г., а ведь тот, первый этап советского проекта был, конечно, гораздо более уравнительным, нежели 70-е годы. Тогда, например, действовал т. н. «партмаксимум» – обязанность члена партии сдавать государству доходы, превышающие определенный максимум. Устройство народного хозяйства СССР как хозяйства одной большой семьи обеспечило ему огромную мобильность всей системы производственных ресурсов, несравнимую с тем, что мог обеспечить рынок с его стихийными механизмами.
Это отличие от рыночной экономики было столь разительно, что западная методология экономического анализа не могла делать стандартных измерений параметров советского хозяйства. Но с 1960-х годов общество стало изменяться, и эти процессы не были поняты. Когда произошла смена поколений, так что люди молодого и среднего возраста просто не представляли себе, что такое голод и недоедание, на советское равенство начались атаки (сначала в элите).
Мао Цзэдун как-то сказал в беседе с Андре Мальро: «Когда существует голод, то стремление к равенству приобретает силу религиозного чувства». Тот, кто хотя бы военное детство провел как обычный советский ребенок, не клюнул бы на призыв отказаться от равенства. Но мы живем уже в другом времени.
ЕГ

Вчера ушел из жизни последний ветеран Интербригад Испании, воин антифашист Хосе Алмудевер Матеу.
Он родился в 1919 году в Марселе. Сражался на фронтах гражданской войны с 1936 года в знаменитой 129-й "Интербригаде 40 наций".
Светлая память Герою!
#antifa #classwar
Он родился в 1919 году в Марселе. Сражался на фронтах гражданской войны с 1936 года в знаменитой 129-й "Интербригаде 40 наций".
Светлая память Герою!
#antifa #classwar
Е
Рабочие новости 20 - 26 мая 2021
Собирание украинских земель.
Борьба рабочих в Финляндии и Грузии.
Забастовки в Аргентине и США.
Об этом и другом читайте далее:
https://telegra.ph/Rabochie-novosti-05-27
#новости #забастовка #победа_рабочих
#промышленные_рабочие #портовики #транспортники
Собирание украинских земель.
Борьба рабочих в Финляндии и Грузии.
Забастовки в Аргентине и США.
Об этом и другом читайте далее:
https://telegra.ph/Rabochie-novosti-05-27
#новости #забастовка #победа_рабочих
#промышленные_рабочие #портовики #транспортники
2021 May 30
Q
В период «сталинизма» советское общество было консолидировано механической солидарностью. Все были трудящимися, выполнявшими великий проект. Это общество было похоже на религиозное братство.
Московичи пишет: «Механическая солидарность отсылает к представлению о конфессиональном обществе. Таким был бы случай очень простых и архаических обществ, скрепляемых религией, члены которого в то же самое время являются верующими. А также церковь, секта, даже партия, одушевленные единой верой. Все они имеют одно кредо, объединяются вокруг единодушно признаваемых и подкрепляемых периодическим церемониалом символов.
Разделение труда, выделяя функциональные обязанности и тем самым, индивидуализируя людей, делает так, что у каждого появляется необходимость в других, чтобы работать, обмениваться или господствовать. Тем самым формируется новый тип солидарности, органическая солидарность. Она основана на взаимодополняемости ролей и профессий».
Но очевидно, что в любом обществе есть разрывы и лакуны в обеих сетях солидарности — и в механической, и органической. Есть общности, которые мимикрируют между групп, связанных между собой солидарностью в общество. Например, преступный мир, диссиденты, которые отвергают основные нормы и ведут полуподпольное существование. В стабильный период такие общности стараются не создавать открытых конфликтов и не бросают вызовов обществу и государству. Но когда харизма героического времени не остыла, поведение таких общностей вызывает возмущение. Этому посвящена довольно большая литература 1920-х годов (например, повесть А. Н. Толстого «Гадюка», 1928). Очень многие помнят стихи Маяковского (1921):
Слава. Слава, Слава героям!!!
Впрочем, им довольно воздали дани.
Теперь поговорим о дряни.
Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло из-за спины РСФСР мурло мещанина.
Но «мурло мещанина» в 1930-1950 гг. было под приемлемым контролем советских институтов, и шансов захватить культурную гегемонию не имело. Но начался принципиально иной этап существования СССР.
После войны в СССР началась быстрая урбанизация. Резко увеличилась мобильность населения. Быстро изменялась структура занятости в народном хозяйстве, от традиционных профессий очень быстро стали отпочковываться новые специальности — во всех отраслях
Московичи пишет: «Механическая солидарность отсылает к представлению о конфессиональном обществе. Таким был бы случай очень простых и архаических обществ, скрепляемых религией, члены которого в то же самое время являются верующими. А также церковь, секта, даже партия, одушевленные единой верой. Все они имеют одно кредо, объединяются вокруг единодушно признаваемых и подкрепляемых периодическим церемониалом символов.
Разделение труда, выделяя функциональные обязанности и тем самым, индивидуализируя людей, делает так, что у каждого появляется необходимость в других, чтобы работать, обмениваться или господствовать. Тем самым формируется новый тип солидарности, органическая солидарность. Она основана на взаимодополняемости ролей и профессий».
Но очевидно, что в любом обществе есть разрывы и лакуны в обеих сетях солидарности — и в механической, и органической. Есть общности, которые мимикрируют между групп, связанных между собой солидарностью в общество. Например, преступный мир, диссиденты, которые отвергают основные нормы и ведут полуподпольное существование. В стабильный период такие общности стараются не создавать открытых конфликтов и не бросают вызовов обществу и государству. Но когда харизма героического времени не остыла, поведение таких общностей вызывает возмущение. Этому посвящена довольно большая литература 1920-х годов (например, повесть А. Н. Толстого «Гадюка», 1928). Очень многие помнят стихи Маяковского (1921):
Слава. Слава, Слава героям!!!
Впрочем, им довольно воздали дани.
Теперь поговорим о дряни.
Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло из-за спины РСФСР мурло мещанина.
Но «мурло мещанина» в 1930-1950 гг. было под приемлемым контролем советских институтов, и шансов захватить культурную гегемонию не имело. Но начался принципиально иной этап существования СССР.
После войны в СССР началась быстрая урбанизация. Резко увеличилась мобильность населения. Быстро изменялась структура занятости в народном хозяйстве, от традиционных профессий очень быстро стали отпочковываться новые специальности — во всех отраслях