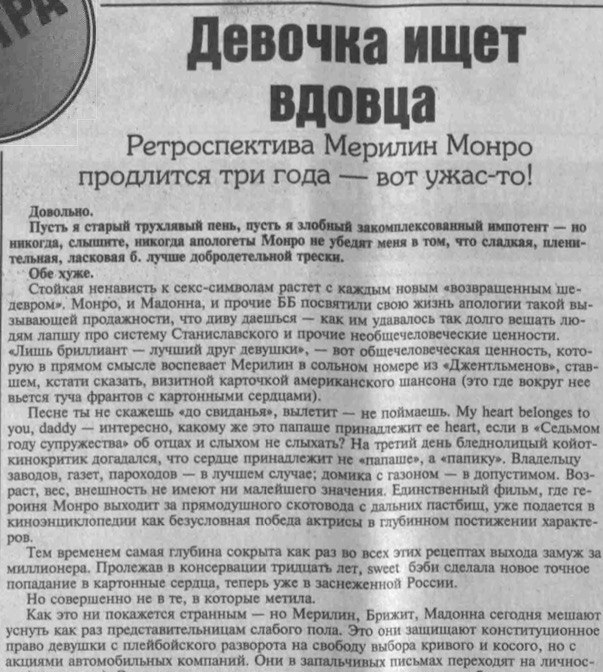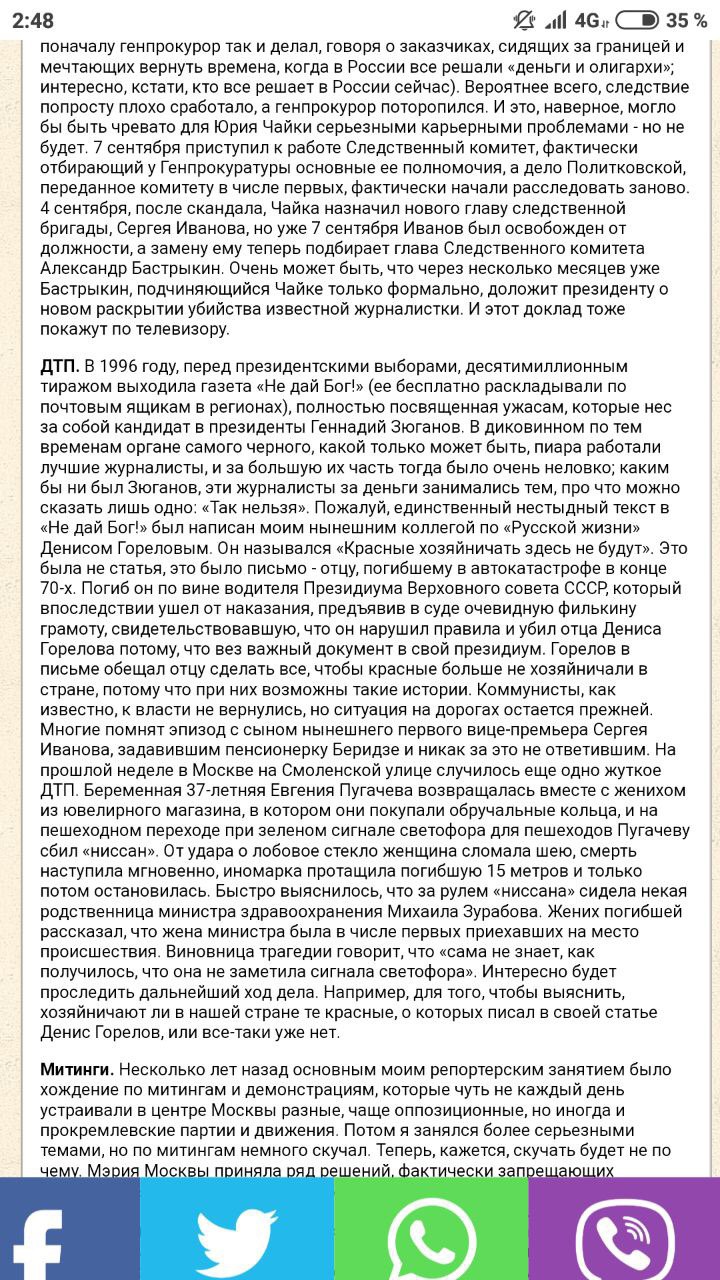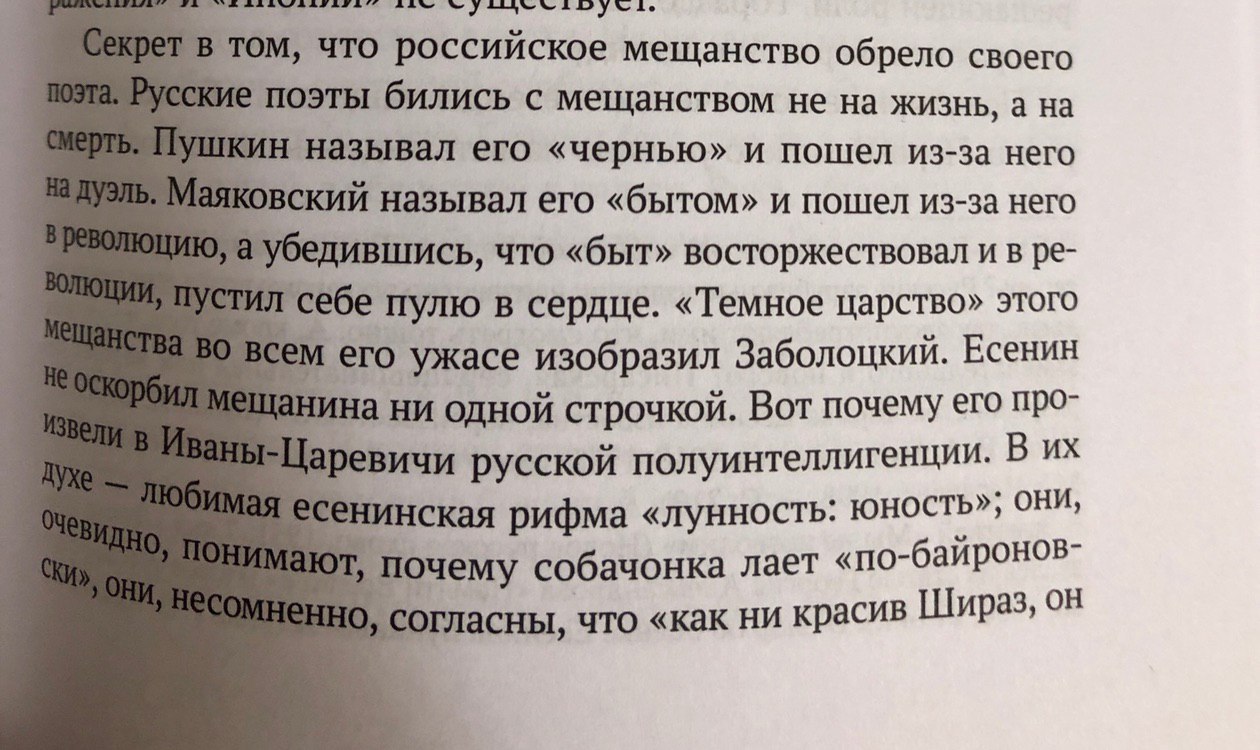Текст при этом довольно стыдный и сам по себе, и особенно в контексте:
Отец...Черт, я даже не знаю, как к тебе обращаться. Тебя убили, когда мне было десять и все одноклассники еще звали отцов папами, а я уже нет. Зато годика через три-четыре они все стали понимать, что их отцы не самые крутые, не самые лучшие, не самые правильные люди на свете -- обычное дело, возраст. А ты для меня так и остался самым-самым-самым, и были тому не только сыновние причины. Шпана детдомовская, золотой медалист, чемпион студенческой Москвы по лыжам, рулевой на Севморпути, авиаинженер, редактор отдела науки в "Комсомолке", один из самых ярких ведущих радио "Маяк" -- они там все до сих пор тебя помнят. Для них одних я по-прежнему не Горелов, а сын Горелова.
Человеку, который вышиб твой "жигуль" на обочину Минского шоссе, на нас было плевать с высокой башни. На мою безотцовщину, на мать, на то, что к своим сорока двум ты уже успел вдоволь нахлебаться военным беспризорником -- и в самолете горел, и валялся на лыжне с порванными связками, и даже в партию вступил, чтобы получить допуск на Байконур, -- что, в общем-то, тебе уже хватит. Ему вообще на всех было плевать: он вел персональную бронированную "Чайку" товарища Кузнецова В. В. -- "видного сов. парт. деятеля, дважды Героя Социалистического Труда" (Советский энциклопедический словарь), без пяти минут кандидата в члены Политбюро. И если б дело было только в этом водиле, я бы нашел его после дембеля, я все же сержант-противотанкист, все же чему-то нас учили, не только канавы рыть. А что, здорово было бы -- ПТУРСом в лобешник, в синее тонированное стекло.
Чепуха, конечно, не стал бы я его искать, потому что если б виноват был он один за две смерти -- твою и бабушки -- закатали бы его, лихача, лет на пять, хватило б и того.
Он не сидел в тюрьме ни дня, понимаешь? Он принес какую-то филькину справку, что вез своему патрону секретные документы и должен был спешить. ДТП с особо тяжкими даже не дошло до суда, его даже не проверили на алкоголь, отмазали вчистую. А его хозяин через два месяца стал-таки кандидатом в члены Политбюро, как будто вас с бабкой и вовсе не было.
Не буду я искать этого болвана. Потому что они убили тебя сообща, толпой, они -- кто дал ему право так ездить, они, со своей руководящей ролью, социальной справедливостью, со своими флагами и кормушками. Они, боссы твоей собственной партии. При любом другом строе ты был бы жив, потому что никто нигде так не ездит. Хотя бы потому, что ни один демократический начальник не станет подставлять прессе задницу за своего убийцу-водителя. И только этим одним нынешний строй в десять раз лучше прежнего.
Тогда, в 77-м, я был еще щегол. "Тебе было уже десять лет -- и ты ничего с ним не сделал!" -- попрекнул меня позже черкес-батареец, но он был не прав: здесь, на равнине, люди взрослеют медленнее. Но в двадцать, с седым виском и значком наводчика 2-го класса, я уже знал, что отвечу -- мало не покажется. И я квитался за тебя честно -- в политотделах самых злых антисоветских газет, зимой 91-го в Вильнюсе, осенью 93-го в "Останкине". С ними, которые все хотят вернуть назад и ездить по нашим трупам. А если они думают, что развал их паскудной системы, снос их памятников, кресты на их карьерах -- достаточная за тебя цена, -- суки, они просто не знают, что такое стать сиротой в десять лет. Ничего, я объясню.
Гадом буду, пока жив -- красные хозяйничать здесь не будут. Либо скоро с тобой свидимся, либо они еще не раз крепко пожалеют о том июне. Когда мне было уже 10, а тебе всего 42.