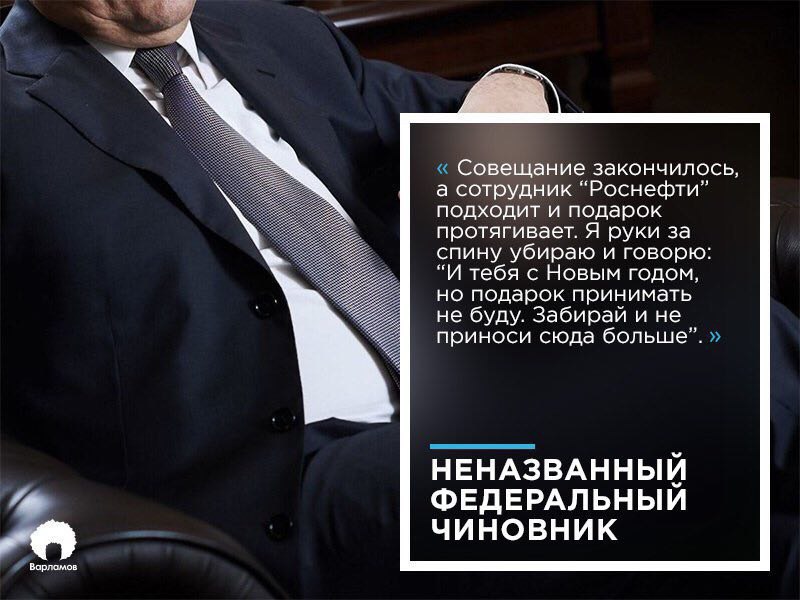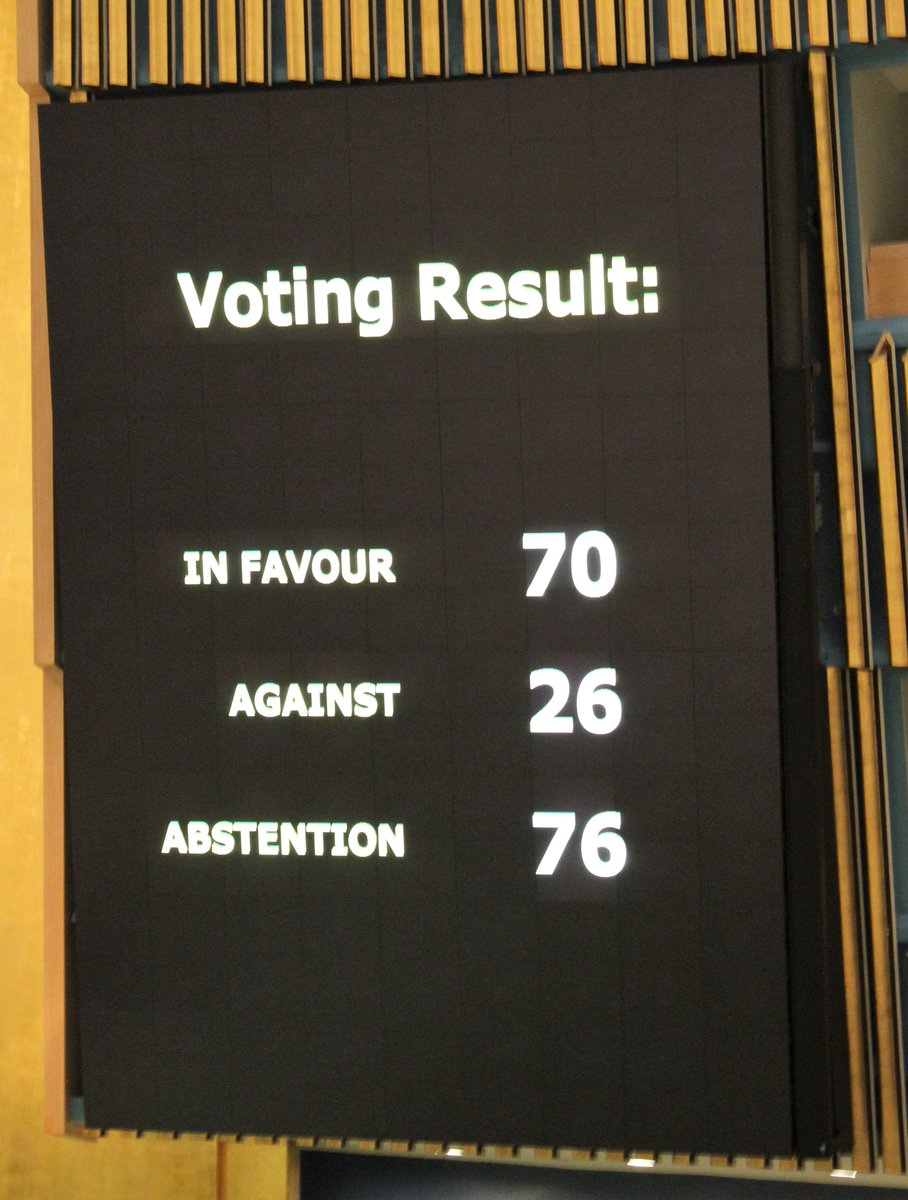🏦Конец периода «Великой стабильности» должен был избавить монетарные власти от иллюзий, что низкая инфляция гарантирует экономическую стабильность в будущем. Очевидно, что это было совершенно не так. Однако, с удвоенной силой взявшись за достижение своих инфляционных целей, центральные банки были вынуждены прибегнуть к беспрецедентному набору непроверенных инструментов монетарной политики.
Например, многие центральные банки сейчас рекомендуют использовать «макропруденциальные» инструменты для управления системными рисками в экономике, что, в свою очередь, позволит им удерживать процентные ставки на более низком уровне в течение более длительного времени. Проблема с этим подходом в том, что существует очень мало (если они вообще есть) эмпирических оснований полагать, что такие меры сработают именно так, как ожидается.
Центральные банки иногда объясняют свою нынешнюю политику, не восхваляя выгоды низкой инфляции, а подчёркивая тяжесть издержек даже умеренной инфляции. Имеется масса свидетельств, доказывающих, что высокая инфляция обходится экономике дороже, чем низкая инфляция, однако трудно найти такие же убедительные доказательства, что умеренная инфляция обходится столь же дорого.
Более того, популярная идея, будто потребители и корпоративные инвесторы, вспоминая об опыте предыдущих ценовых падений, приостановят покупки из-за дефляции, по сути, вообще не имеет под собой никаких эмпирических доказательств. Реакция потребителей разных стран, и не в последнюю очередь в Японии, на недавний спад цен в некоторых отраслях позволяет сделать совершенно противоположный вывод.
Да, действительно, с точки зрения арифметики, дефляция повышает реальное (с поправкой на инфляцию) бремя обслуживания долга. Но если уровень долга повысился до невероятных высот из-за мягкой монетарной политики, тогда решение проблемы путём увеличения количества лёгких денег становится далеко не самым очевидным.
Зацикленность центральных банков на позитивной, но низкой инфляции в преобладающих сегодня экономических условиях становится ещё и опасной. Глобальные долговые коэффициенты резко выросли, с тех пор как начался финансовый кризис, но при этом традиционная маржа кредиторов резко сузилась, что вызывает вопросы по поводу их здоровья в целом. Поскольку кредитование продолжило свою миграцию в «тень», механизм определения цен на финансовых рынках оказался серьёзно скомпрометирован, причём до такой степени, что многие активы сейчас выглядят переоценёнными.
Все эти события создают угрозу не только финансовой стабильности, но и работе реальной экономики. Кроме того, можно даже утверждать, что сами по себе лёгкие деньги помогли неожиданно мощным силам дезинфляции, которые наблюдаются в последние годы. Из-за мягких условий финансирования и снисходительности регуляторов совокупное предложение выросло (при этом количество компаний-«зомби» увеличилось). Между тем, совокупный спрос сдерживался долговыми проблемами, а это ещё одно следствие мягких монетарных условий.
В таких условиях стремление продолжать политику монетарного смягчения выглядит совершенно безосновательно. На горизонте виднеется так много потенциальных опасностей, что центральные банки должны, как минимум, подумать о переосмыслении тех фундаментальных идей, который лежат в основе их политики.
Итак, что должны делать власти? В непосредственном будущем правительствам следует перестать полагаться столь сильно на политику центральных банков в вопросах восстановления устойчивого роста экономики. Вместо одержимости своим инфляционным таргетированием монетарные власти должны (запоздало) начать спрашивать себя: а какие практические меры они могут предпринять, чтобы предотвратить начало нового кризиса. Не менее важно, чтобы они убедились в том, что они сделали всё возможное для подготовки к подобному сценарию, если вдруг их превентивные меры оказались неадекватными.
goo.gl/Y4PxFY