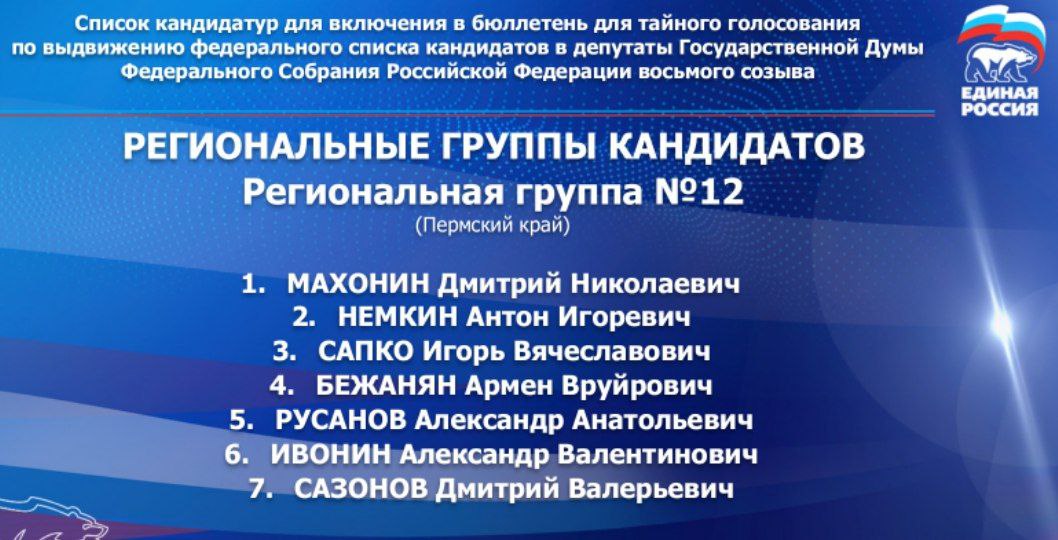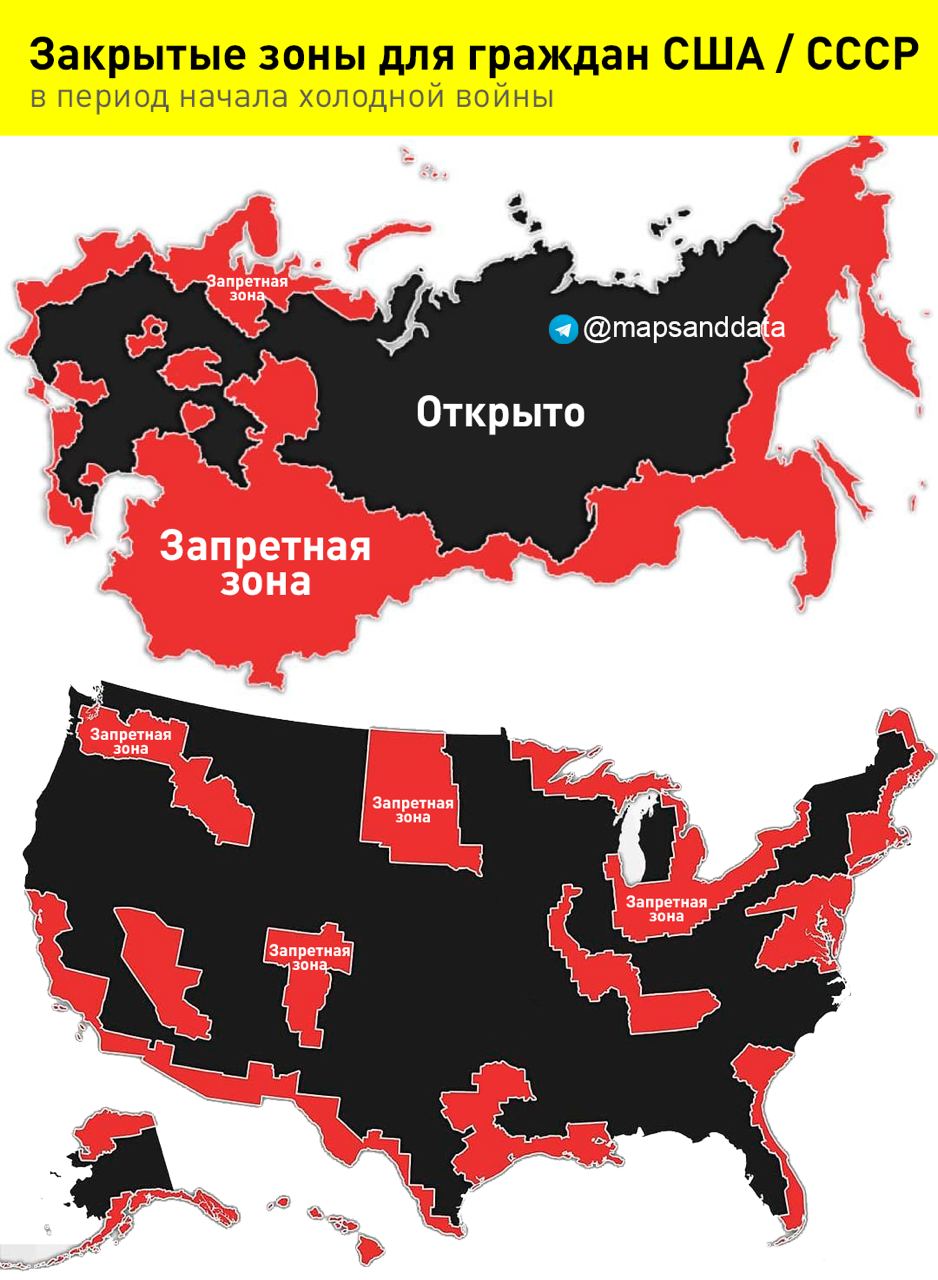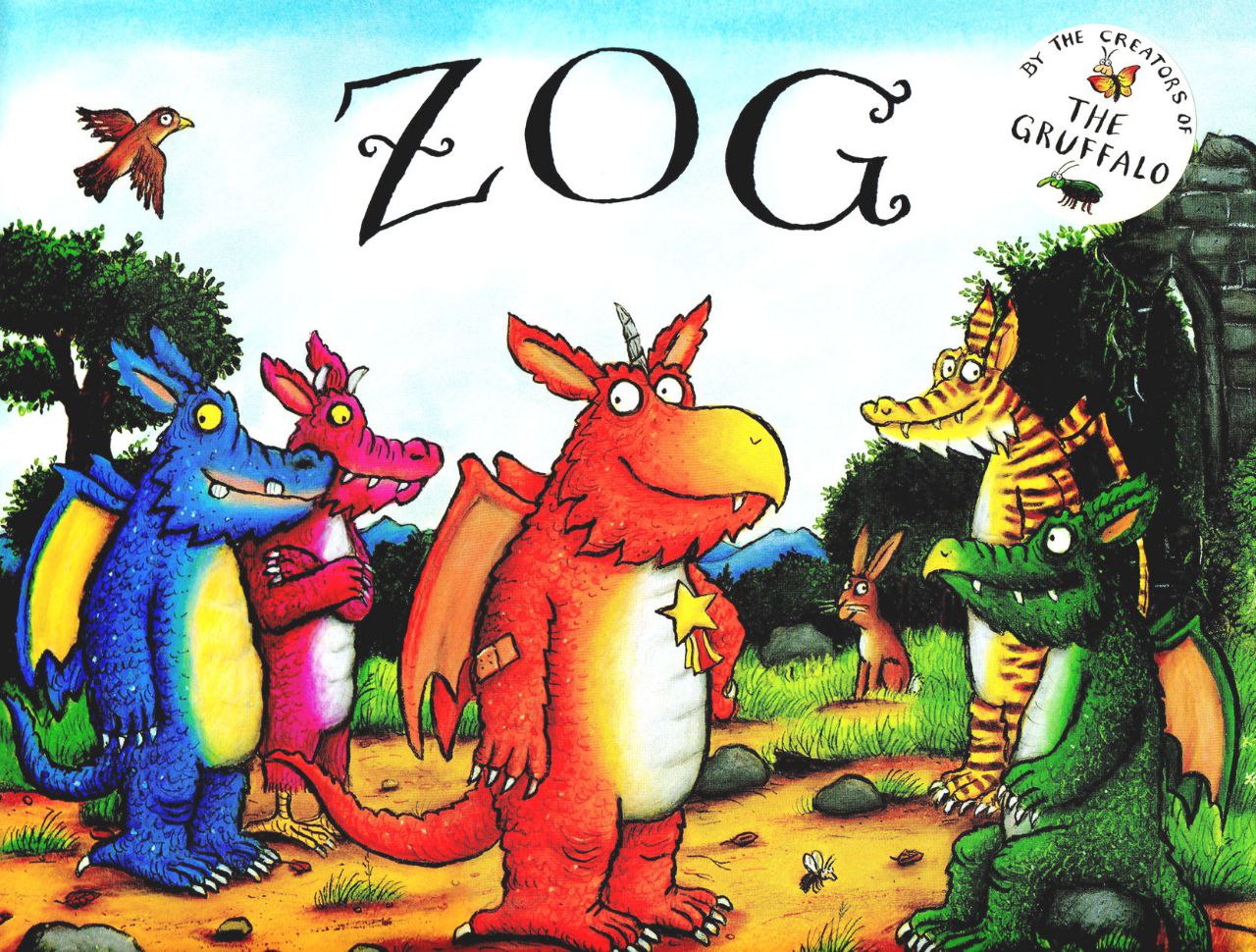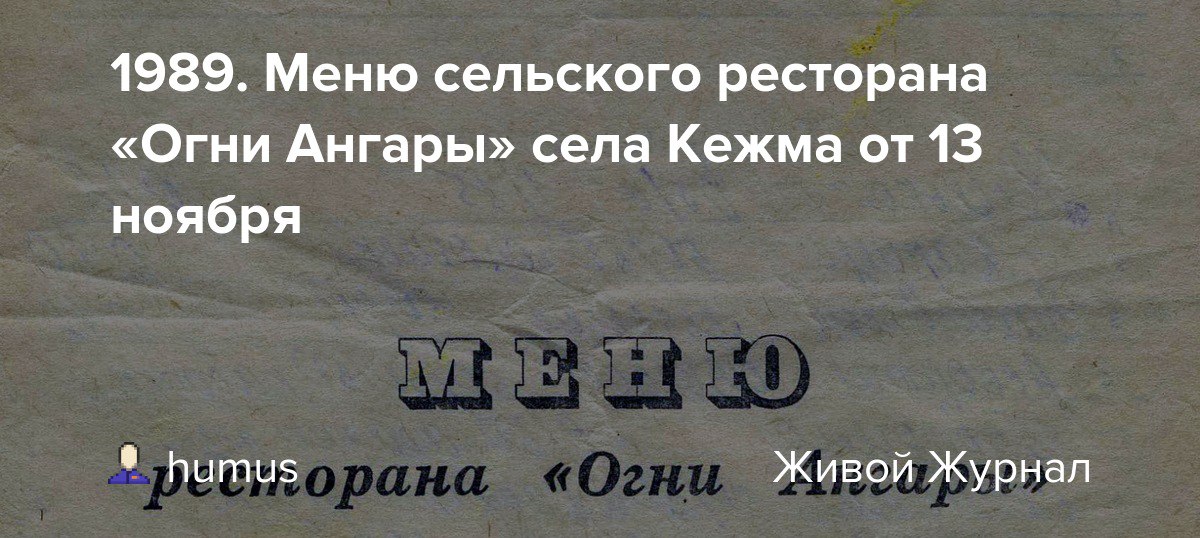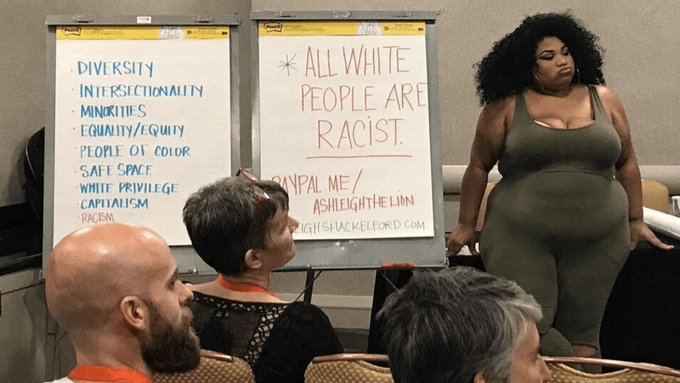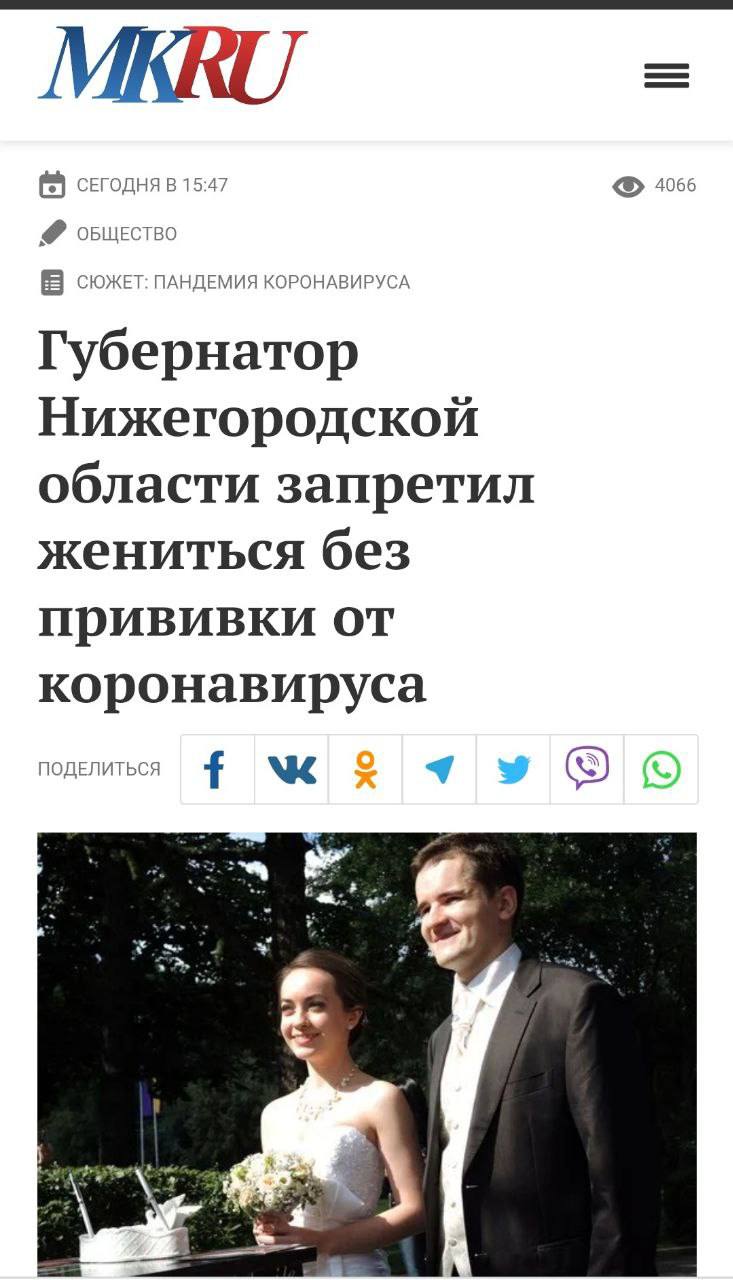shurigin
14 марта 2004, 14:28:37 UTC
СВЕРНУТЬ
Мне кажется, что вы путаете два понятия.
Военного, как ремесленника войны. И офицера, как представителя некой герметичной КАСТЫ.
При всём уважении к законам чести, традициям и воспитанию «царских офицеров», Первая мировая война от всех этих понятий не оставила ничего. Для начала она потребовала не просто большого количества, а МАССЫ офицеров. Если в 1914 году дворяне составляли примерно 45% офицерского корпуса, то в 1917 году лишь 5%, а на первом месте, как это ни странно были выходцы их крестьян – около 30%. А всего за три года войны в офицеры было произведено почти миллион человек.
Мировая война заставила понять одну простую истину – офицер это не джентльмен. Нет. Офицер это, прежде всего носитель, знаний о войне. И от того, насколько он продвинут в военных искусствах, зависит и его карьера и отношение к нему окружающих. В том числе и солдат.
Закрытость офицерской касты приводит к её вырождению.
Генерал Куропаткин был офицер до мозга костей, но русской армии в Манджурии от этого было не холодно не жарко. Командующим он был бездарным. Когда каста «закрыта» Куропаткиных начитает продуцироваться слишком много.
Кстати, большинство лучших советских военачальников были ВОЕННЫМИ, но не были людьми КАСТЫ.
Безукоризненный джентльмен, носитель чести и морали, положивший роту бездарно под чужими пулемётами и застрелившийся по этому поводу, не вызовет у солдата ничего кроме кривой усмешки, а у начальства головной боли – как бы «списать» его поудобнее, что бы семье хоть пенсию начали платить.
Офицер, положивший роту под пулемётами, но вернувшийся из под этих пуль живым и НАУЧИВШИЙСЯ воевать уже вторым набором солдат будет восприниматься как спаситель. Увы, но это страшная правда войны. И у любого, самого гениального полководца, всегда за спиной есть рота, которую он положил бездарно и глупо. Впрочем, положенные роты, это не лучшая форма учёбы. Но об этом ниже.
Вопрос в отборе. Нужны те, кто не дадут бездарному командиру положить вторую и третью роты…
И вот внутри этой «науки воевать», которая в каждой культуре несёт свои особенные и присущие только её черты начинают вырабатываться традиции и некие морально-этические установки, которые направлены на закрепление этих традиций. То есть, говоря проще, не некий «кодекс рыцарской чести» порождает офицера, а каждая военная школа создаёт свой собственный «кодекс чести» для воспитания офицеров именно этой школы. (сколько рот положить морально, а сколько нет)
Не совсем точны вы в оценке Японии, и её военной традиции.
Как раз слабость Японии в том, что она, опершись на традиционный «Бусидо», с его ставкой в первую очередь на КАСТОВОСТЬ так и не смогла сформировать собственную военную школу и к концу войны просто задохнулась от недостатка подготовленных и обученных офицеров.
Кстати, столкновение двух военных школ (русской и японской) в начале 20 века показало две тенденции, которые в итоге были подтверждены всей военной историей 20 века.
«Кастовость» в русской армии всегда приводит к её окостенению и как следствие к деградации. Особенно высшего боевого управления. При этом войска и офицерский корпус демонстрируют стойкость и высокий воинский дух.
Япония, получив серьёзное технологическое и организационное превосходство над противником, способна быстро добиться тактического успеха, но при этом не способна вести затяжную ОТЕЧЕСТВЕННУЮ (по самоосознанию нации) войну. Как, например, СССР в 1941-45 или Германия в 1943-45 г. Потеря четырёх авианосцев у Мидуэя привела к невосполнимым потерям в лётном составе (и это всего около300!!!) лётчиков…
Если солдат размышляет над тем, кому он доверил свою жизнь – мурлу или «господину поручику», то это неизбежно приведёт к тому, что он задумается над тем стоит ему умирать именно за эту вшивую деревеньку или может подождать великой битвы?
Солдата воспитывают на том, что он свою жизнь доверяет НЕ ОФИЦЕРУ как ЛИЧНОСТИ, а ОФИЦЕРУ как персонифицированному символу того государства, которому он присягал. И ему не даётся право обсуждать хочет он подчиняться именно этому офицеру или не хочет. «Rise and battle!»