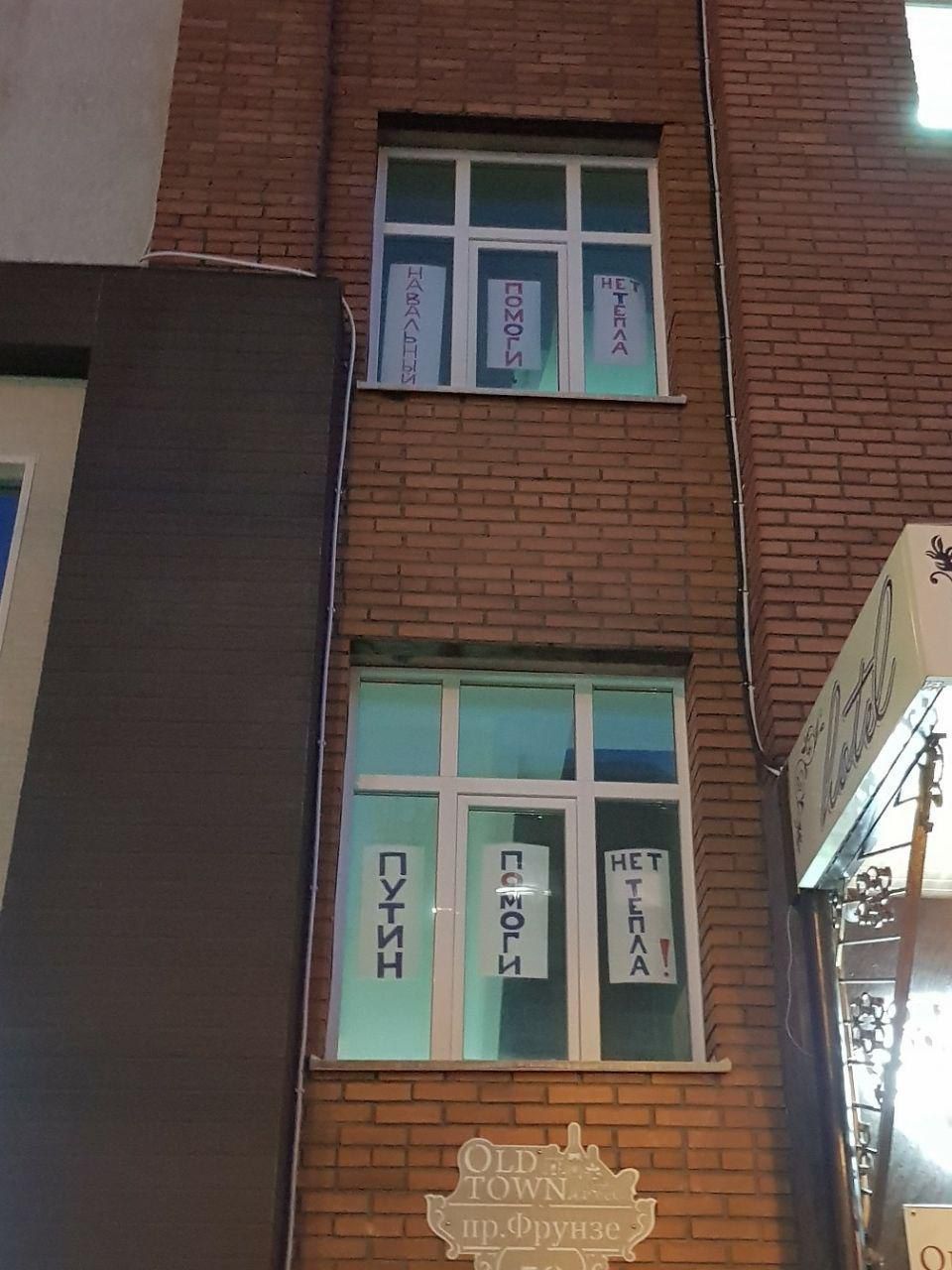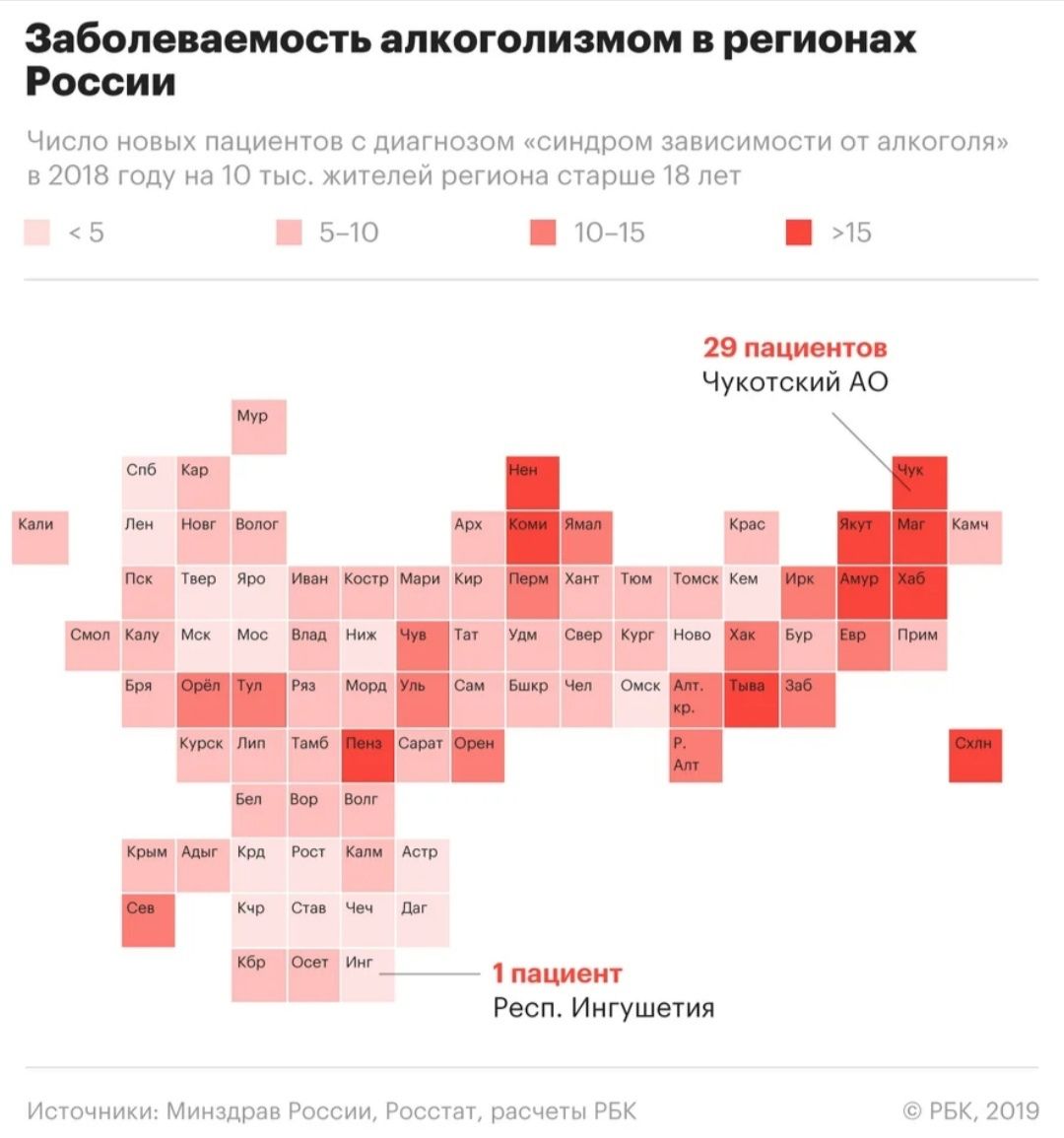Каждый раз, обращая внимание на байкальскую повестку, мы испытаем острое непрекращающееся дежавю. Ещё весной шли
разговоры о внесении изменений в приказ № 63 Минприроды РФ и актуализации технических требований, однако воз и ныне там.
На минувшей неделе эксперты в очередной раз предлагали пути решения экологических проблем озера: по традиции отметили необходимость регулировать растущий турпоток и создавать на побережье инфраструктуру, которая бы решила наболевшие вопросы с мусором и сточными водами.
Вот вам и цифры: в 2018 году регион посетили 1,7 млн гостей. По данным областного агентства по туризму, турпоток увеличивается на 3-4% ежегодно. При этом на Байкальской природной территории действует более 1200 несанкционированных свалок. Многие помнят историю с турбазой «Песчанка», работники которой не придумали ничего умнее, чем спрессовывать мусор в брикеты и закапывать в землю, а сточные воды просто сливать в почву. В итоге ущерб природе оценили в 1,5 млн рублей, а управление СК по Иркутской области в январе возбудило уголовное дело.
Но если к организации турпотоков байкальские регионы уже приступают, то строительство мусоросортировочных комплексов и очистных сооружений плотно упёрлось в противоречия в законодательстве. Масштабных работ по проектированию и строительству полигонов для мусора или мусоросортировочных комплексов на Байкале не идёт.
Депутат ГД РФ от Иркутской области Михаил Щапов считает, что основная причина в приказе Минприроды РФ № 63 «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал». Приказ предъявляет крайне жёсткие требования к очистке сточных вод. По словам Щапова, «она должна быть чище, чем вода в самом Байкале».
Строительство и содержание таких очистных стоит больших денег, которых в бюджетах просто нет. Похожая проблема с очистными в Слюдянке. «Если их построить в соответствии с приказом № 63, то обслуживание будет стоить порядка 100 млн рублей в год. Муниципалитет не справится с такими затратами. В результате мы имеем парадоксальную ситуацию: казалось бы, правильные для сохранения озера требования Минприроды приводят к тому, что очистные не строятся, и нагрузка на Байкал растет», – говорит депутат.
Природоохранное законодательство критикует и член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Марина Григорьева: «Есть парадоксальные моменты, когда, с одной стороны, оно требует защищать Байкал и ограничивает хозяйственную деятельность в центральной экологической зоне, с другой – эти ограничения запрещают строить там мусоросортировочные станции и прочую необходимую инфраструктуру».
Сейчас, по словам Щапова, «идёт масштабный анализ приказа № 63». Кроме этого, Иркутский госуниверситет по заказу аппарата Госдумы готовит концепцию усовершенствования федерального закона «Об охране озера Байкал», принятого ещё в 1999 году, о недостатках которого экологи заявляли множество раз.
Ещё одна серьёзная проблема: сточные и подсланевые воды. Сейчас на Байкале работает всего одно экосудно, на которое владельцы других судов могут сдавать отходы. На него сдается около 700-800 тонн нефтесодержащих отходов и сточных вод, а значительная часть действующего флота на Байкале сбрасывает их в озеро. По оценкам, ежегодно в Байкал попадает до 400 тонн нефтепродуктов и сточных вод.
При этом прокуратура отмечает низкий процент выполнения природоохранных мероприятий. Чуть менее, чем никак исполняется федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал». На реализацию 21 программного мероприятия в 2018 году предусматривалось финансирование в размере 1,8 млрд рублей, в том числе на ликвидацию накопленных отходов от деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» и ОАО «Усольехимпром» на территории Иркутской области, из них освоено всего 236,3 млн рублей.