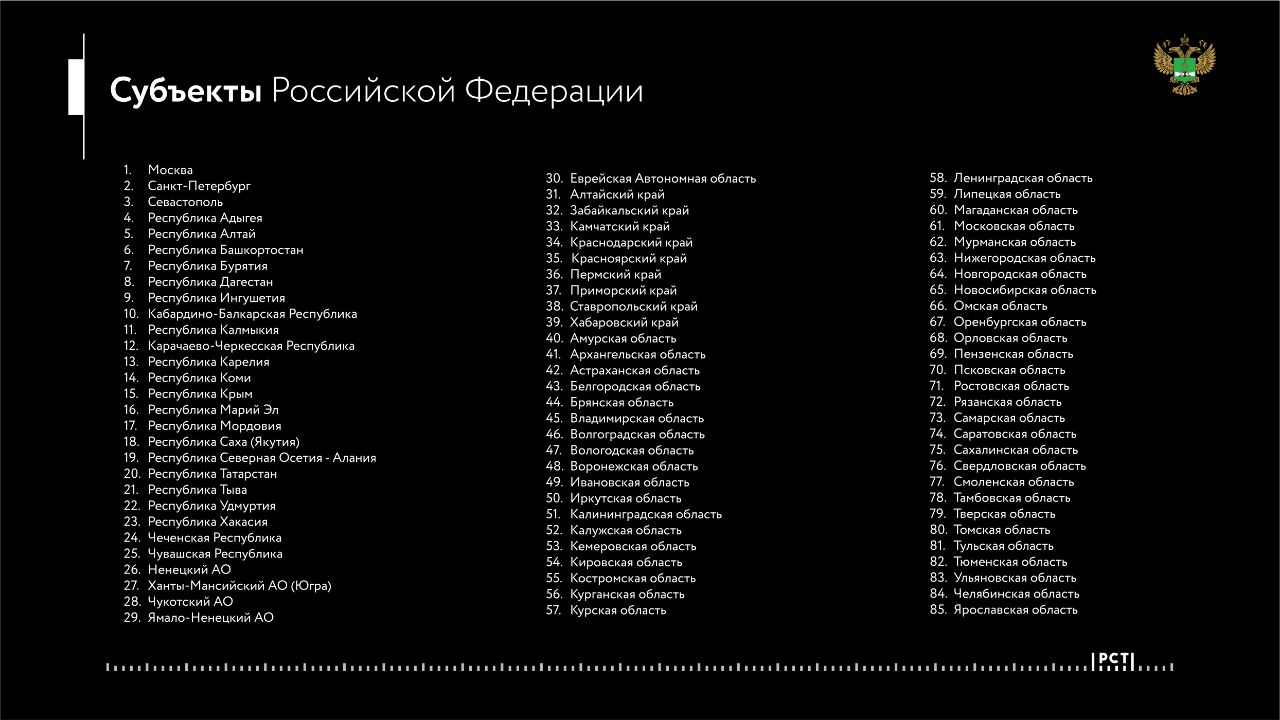Накануне съезда «Единой России» было много рассуждений, какую стратегию выберет партия, выйдет ли из идеологического тупика и что там будет в реальности с обновлением партийных институтов.
Злые ветра, подувшие из Хабаровского края после окончания там избирательной кампании, вызвали наверху самый настоящий миозит, вплоть до защемления нервных окончаний. Выборы наглядно показали, к чему приводят патологические процессы, если воспринимать итоги не просто как тактическую победу одной партии над другой, а как тяжёлые последствия дисбаланса управления регионом. Причём тревожная симптоматика, развившаяся в «хабаровский кейс» наблюдается и в ряде других российских субъектов.
Выборы губернатора и кампания 2019 года в Хабаровском крае стали примером того, что бывает, когда ненависть к федеральной власти достигает критического градуса, у людей огромный запрос на перемены и социальную справедливость, холодильник победил телевизор, а элиты разобщены и среди истеблишмента нет ни одного яркого актора, а только лица, вызывающие электоральную изжогу. Выбирать в Хабаровском крае из единороссов было попросту некого: ни, по-настоящему, новых людей, ни ресурсных кандидатов, готовых к конкуренции, ни харизматиков.
Предпосылки такого фона — зачистка политического поля, которую использовали и используют губернаторы разных регионов. В Хабаровском крае от потенциальных конкурентов избавлялся Вячеслав Шпорт, в Кузбассе — Аман Тулеев, чьё наследие привело к тому, что местный истэблишмент до сих пор не способен ни создать органичную конкурентную среду, ни сгенерировать ничего нового, кроме повторения, что сейчас демонстрирует команда Сергея Цивилёва.
Поля зачищались в разных регионах и всё это, как в Липецкой области, например, приводило к отсутствию политической конкуренции. Вся активность либо заканчивается на уровне муниципалитетов, либо не начинается вовсе. Примерно так начинает работать механика паралича воли: элиты не хотят делать резких движений. В этом состоянии вся энергия направлена не на создание чего-то нового, конкурентного, а на желание обезопасить себя и избежать возможных рисков. И в таком положении находятся элиты разных российских регионов. Они безынициативны, снижают свою активность до минимальной, ровно для того, чтобы приспособиться к внешней среде и выжить, демонстрируя лояльность и сохраняя капитал.
Всё это приводит к тому, что настоящие политические процессы постепенно подменяются имитационными, институты власти и гражданского общества становятся декоративными, а уровень политического менеджмента падает до нулевого. В результате появляется высокий риск того, что с набором критической массы недовольства, люди проголосуют за неизвестных, а зачастую и некомпетентных людей, которых поведёт за собой на выборы лидер-популист. Что и показали выборы в Хабаровском крае, усадившие в депутатские кресла машинистов паровых турбин, торговцев черметом, хоккеистов и безработных.
А если в анамнезе — низкий уровень социального самочувствия, плохой политический менеджмент, отсутствие политической конкуренции, растущее недоверие людей к губернатору, негативное отношение к которому усиливается из-за непрофессионализма его команды — включать «новую искренность» и делать тысячу добрых дел — всё равно, что ставить укол в костыль. Не учесть запрос на качественные изменения, значит, проиграть ещё на старте. И стесняющиеся собственной партии кандидаты-одномандатники, отцепившие партийный значок на время электорального цикла, ситуацию не исправят.
Мало просто работать с локальной повесткой, умножать сущности и число чиновников, создавая администрации региональных правительств для лучшей связи с муниципалитетами. И пока «партия ищет собственные ответы на общественные запросы», времени на проверку новых гипотез остаётся всё меньше. Это понимают и в АП, и в «ЕР», поэтому, чтобы роль партии в в долгосрочной перспективе стала ещё значимей — перезагрузка должна быть hard reset.