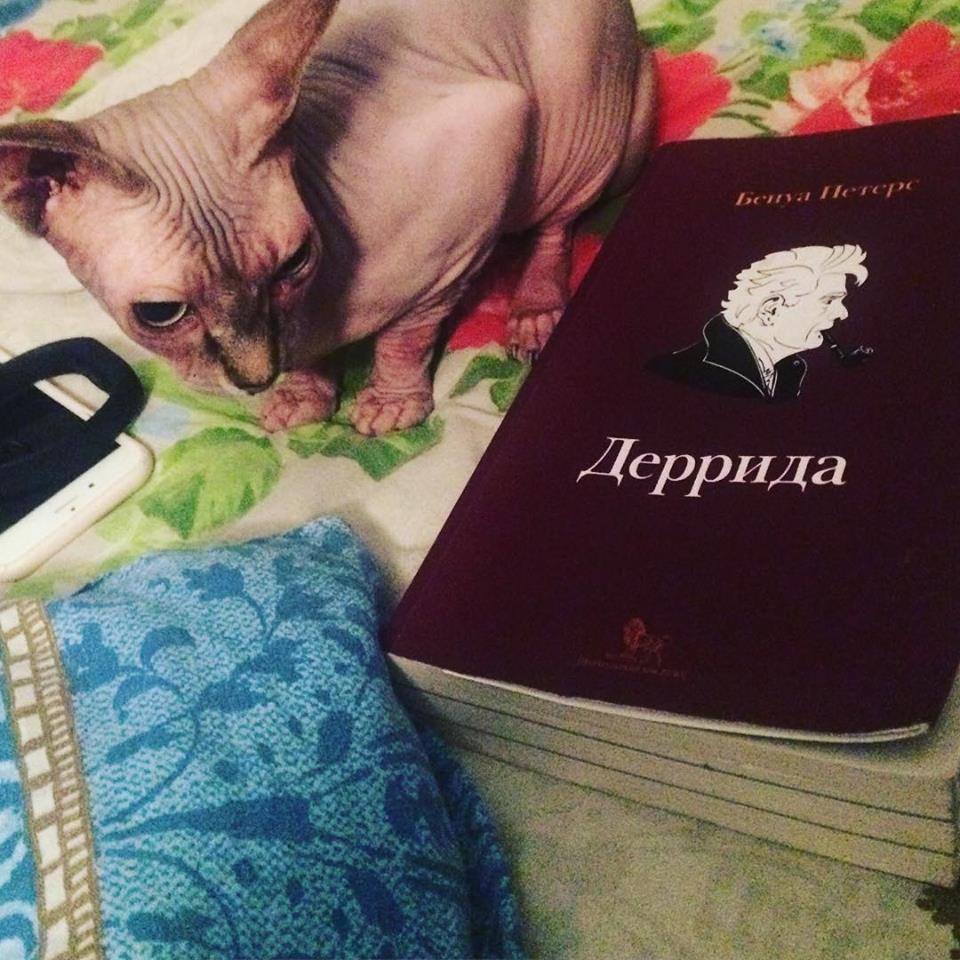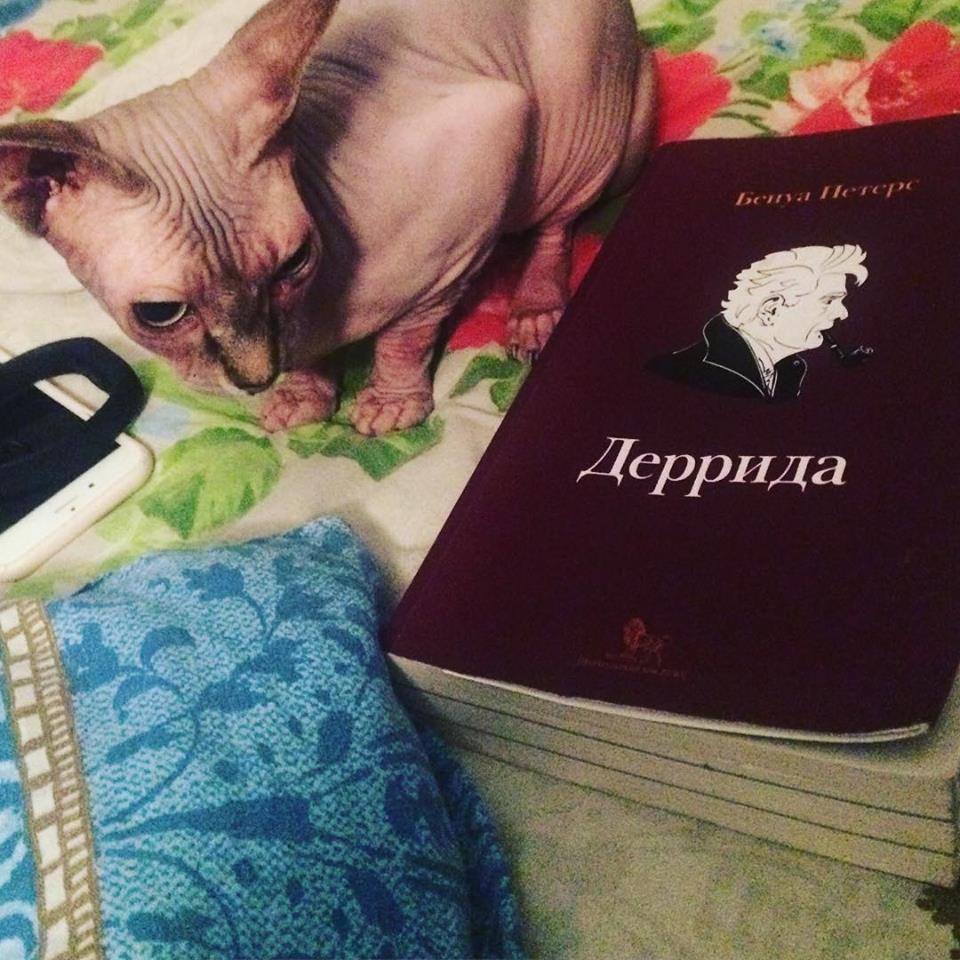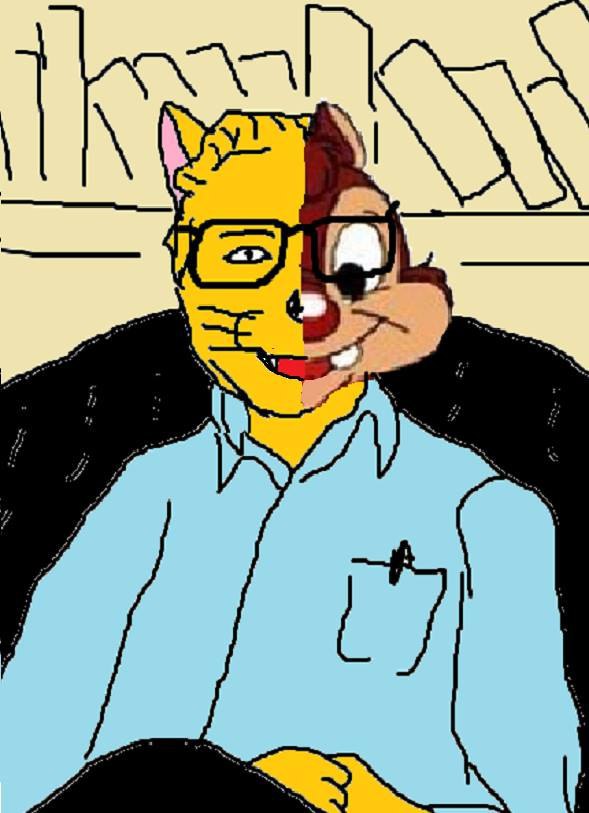«
Политические сообщества, допускавшие свободу обсуждения управленческих сюжетов, оказывались вовлечены в конфликтное дебатирование актуальных вопросов и в еще более сложную дискуссию „второго уровня“».
Атнашев&Велижев
На днях в НЛО вышел
долгожданный сборник статей так называемой Кембриджской школы, подготовленный парой молодых звезд — филолога Велижева и историка Атнашева, мы их не любим за то, что они:
1) держат нас за идиотов: изобретение велосипеда про Чаадаева, мол, тут в России никто не знает, что Чаадаев — это русский Берк; и этому авторов научила Кембриджская школа;
2) считают нас нуждающимися в немедленном просвещении всеми доступными способами: пропагандистский сборник про «Особый путь», где по сложившейся традиции Путину приписываются идеи, которых он не придерживается, а затем эти идеи с грохотом и под улюлюканье рушатся;
3) эксплуатируют традиционный для местного гуманитарного ландшафта способ приобретения культурного капитала —
распечатывание «спецхрана» и тяжкий труд таможенника;
4) дружат с плохими ребятами: связь с культурными институциями специфической респектабельности, обеспечивающими промоушн определенного извода постколониальных исследований (Эткинд, Могильнер и др.) — НЛО и др.;
5) снобы — люди ведут себя так, как будто вокруг них нет никого.
Что люди влезают в политическую философию, не имея ни политологического или философского образования, ни политической практики, особого значения не имеет — мы сами не будем снобами и только лишь приветствуем появление новых звезд, прилетевших с чужих небес.
Впрочем, наша нелюбовь никого не волнует. Как не волновала она одного автора того самого скандального «Логоса» про право на секс (к сожалению, номер пока не выложили в сеть).
Александр Павлов, более известный вам как ведущий
вот этого телеграм-канала и автор книг про Тарантино, а на самом деле заведующий сектором социальной философии ИФ РАН написал довольно жесткую рецензию на деятельность Атнашева и Велижева в целом — «Приключения метода: Кембриджская школа (политической мысли) в контекстах». Павлов сравнивает подход двух импортеров Кембриджской школы — питерского центра Res Publica и пары Велижев&Атнашев не в пользу вторых. В упрек им он ставит чрезмерное доверие манифестам школы (которые ею самой не выполняются) и веру в ее методологическую целостность (которая ими не соблюдается). Упреки в поверхностности рецепции и необоснованных претензиях представлять школу в России завершаются выводом: «почти пятьдесят лет деятельности Кембриджской школы нуждаются в более детальной, основательной и глубинной рецепции, прежде чем мы могли бы развивать их „кабинетную идеологию“ и методологию на нашей почве».
Справедливости ради Атнашев&Велижев
ответили в последнем вестнике философии ВШЭ, вкратце ответ их «спасибо за критику, очень интересно», напоминает то ли реакцию кота Леопольда, то ли слона, снизошедшего до моськиного лая.
Впрочем, нам во всей этой истории, иначе бы нас никак не касавшейся, интересна теоретическая инновация Павлова, предложившего понятие «интеллектуальная франшиза» — причем в позитивном контексте внедрения методов и ценностей иностранных научных школ на местной почве. Мы считаем, что «франшиза» в нашем гуманитарном контексте вообще никак не работает, являясь лишь алиби присвоения чужого культуркапитала, и обосновывая право на контроль определенного тематического поля публикаций. Но сама по себе идея франшизы как средства подрыва местной коррупционно-просветительской сети в гуманитарных науках выглядит привлекательной.