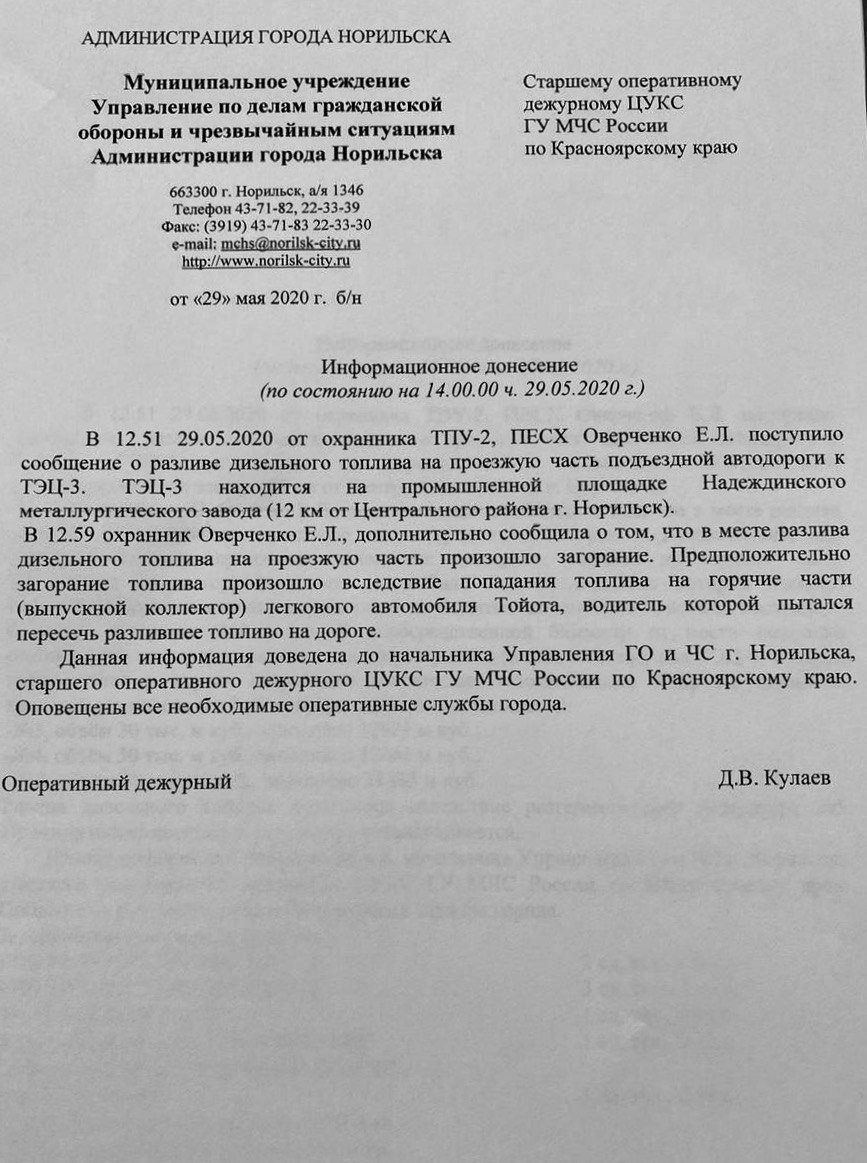Возей — черное пятно нашей истории (часть 2)
Коминефть, бывшая на тот момент владельцем проблемного актива, поначалу попыталась разобраться своими силами и «без лишнего шума». Подача нефти была прекращена, для чего были остановлены все нефтепромыслы, загружавшие эту трубу. Началось лихорадочное сооружение нового нефтепровода Возей-Усинск и строительство гидрозатворов на реке Колва, а также сбор нефтепродуктов. Наиболее пострадавший сегмент продуктопровода обошли 4-километровым лупингом.
На этом можно было бы поставить катастрофу «на паузу», но 12 сентября руководство Коминефти приняло решение... возобновить прокачку по продуктопроводу. Это решение до сих пор вызывает у многих оторопь: зачем такой риск? К сожалению, в том случае «экономика» возобладала над здравым смыслом. Компании, не относившейся к числу крупных, не хотелось влазить в убытки из-за возможной консервации скважин-«кормилиц» и неисполнения обязательств по контрактам. Поэтому там решили пойти ва-банк — авось пронесет.
Не пронесло. Разъеденный коррозией и «гуляющий» на мерзлоте нефтепровод снова пошел вразнос, а осенний паводок размыл речные гидрозатворы. Нефть хлынула в Колву и пошла дальше — в Усу, Печору, к Баренцеву морю. Толщина нефтяного «одеяла», плывшего по реке, достигала 10 сантиметров. Словам компании об утечке 14 тыс. тонн веры уже не было: стало ясно, что речь идет о разливе не тысяч, а десятков тысяч тонн нефтепродуктов.
Тревогу забили на всех уровнях, включая международный — шутка ли дело, под угрозой природа Баренц-региона. В ноябре Гостехнадзор выдал нефтяникам предписание о прекращении эксплуатации нефтепровода с 1 декабря 1994 года. Однако выполнено оно было только 24 января 1995-го, за неделю до ввода в эксплуатацию нового нефтепровода.
Северные холода позволили ликвидаторам взять тайм-аут и подойти к делу более основательно. К весне 1995-го НИИ Комимелиоводхозпроект подготовил программу работ, на реализацию которого Всемирный банк и ЕБРР выделили чрезвычайные кредиты общей суммой 124 млн долларов — ни у Коминефти, ни в госбюджете на это денег не было. Но, несмотря на щедрое финансирование и привлечение современной техники, последствия ЧС и близко не были устранены в течение года, как это планировалось вначале: нефти разлилось столько, что на ликвидацию потребовалось без малого 16 лет. Считается, что в целом с катастрофой справились к 2010 году, но ее последствия аукаются региону и его жителям до сих пор.
Сколько всего нефти вылилось из злополучной возейской трубы? Сейчас сказать уже сложно. По оценкам экспертов, подготовленным для администрации НАО на пике кризиса, в октябре на местности находилось порядка 103 тыс. тонн нефти-сырца, а ещё 15 тысяч ушли в Колву. В свою очередь, по мнению спецов МЧС, осматривавших пострадавшую территорию в ноябре-декабре, речь шла о 81-94 тыс. тонн нефти, разлившейся на площади 591 тыс. квадратов. Эксперты ООН, посетившие Коми в декабре, в целом сошлись на цифре до 100 тыс. тонн. В 2000 году экологи, обследовавшие район бедствия, заявили о том, что на поверхности даже на тот момент — спустя пятилетие после начала работ — находилось до 220 тыс. (!) тонн нефти, а площадь загрязнения достигала 7 квадратных километров.
А что же «экономная» Коминефть, гонявшая аварийный нефтепровод и сделавшая все, чтобы скрыть, а далее и преуменьшить масштаб беды? Ее простенькая «бизнес-модель» не сработала: кредитное бремя и штрафные санкции привели ее к банкротству. С 1999 года все активы компании (вместе с аварийными объектами) перешли к Лукойлу.
https://t.me/caparctic/1016