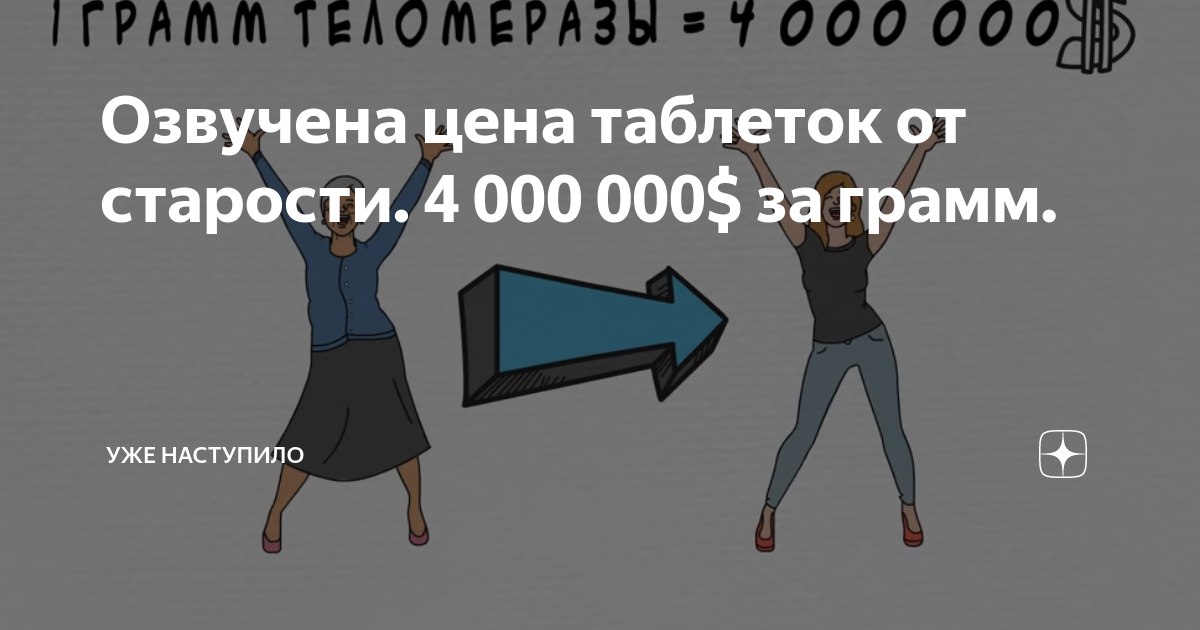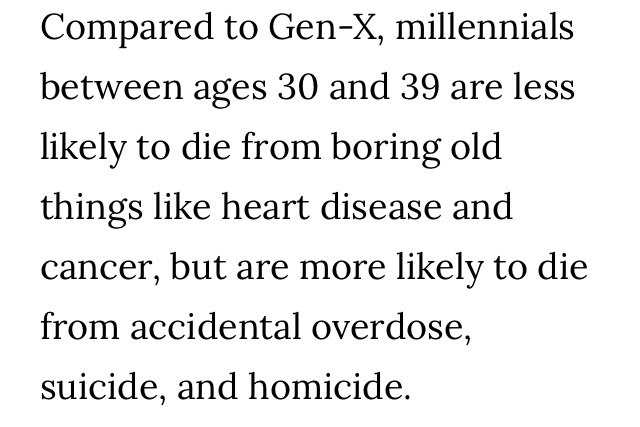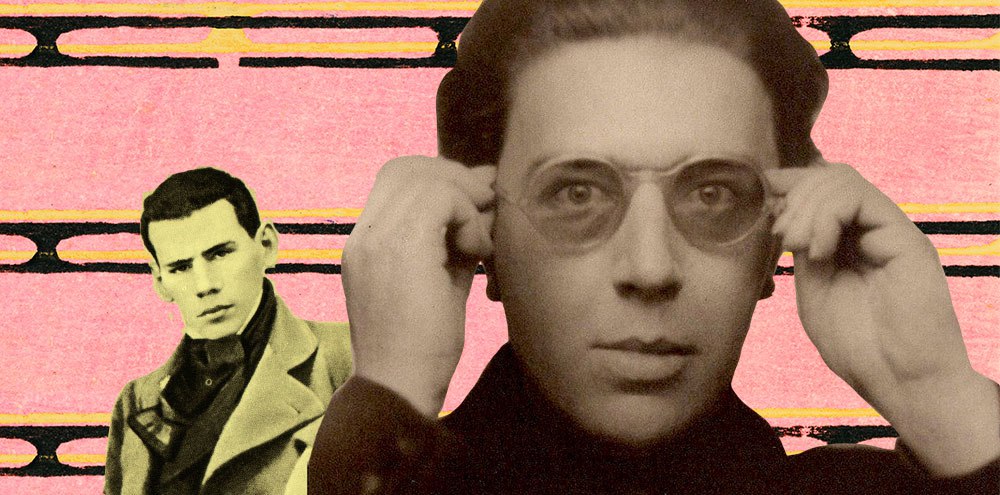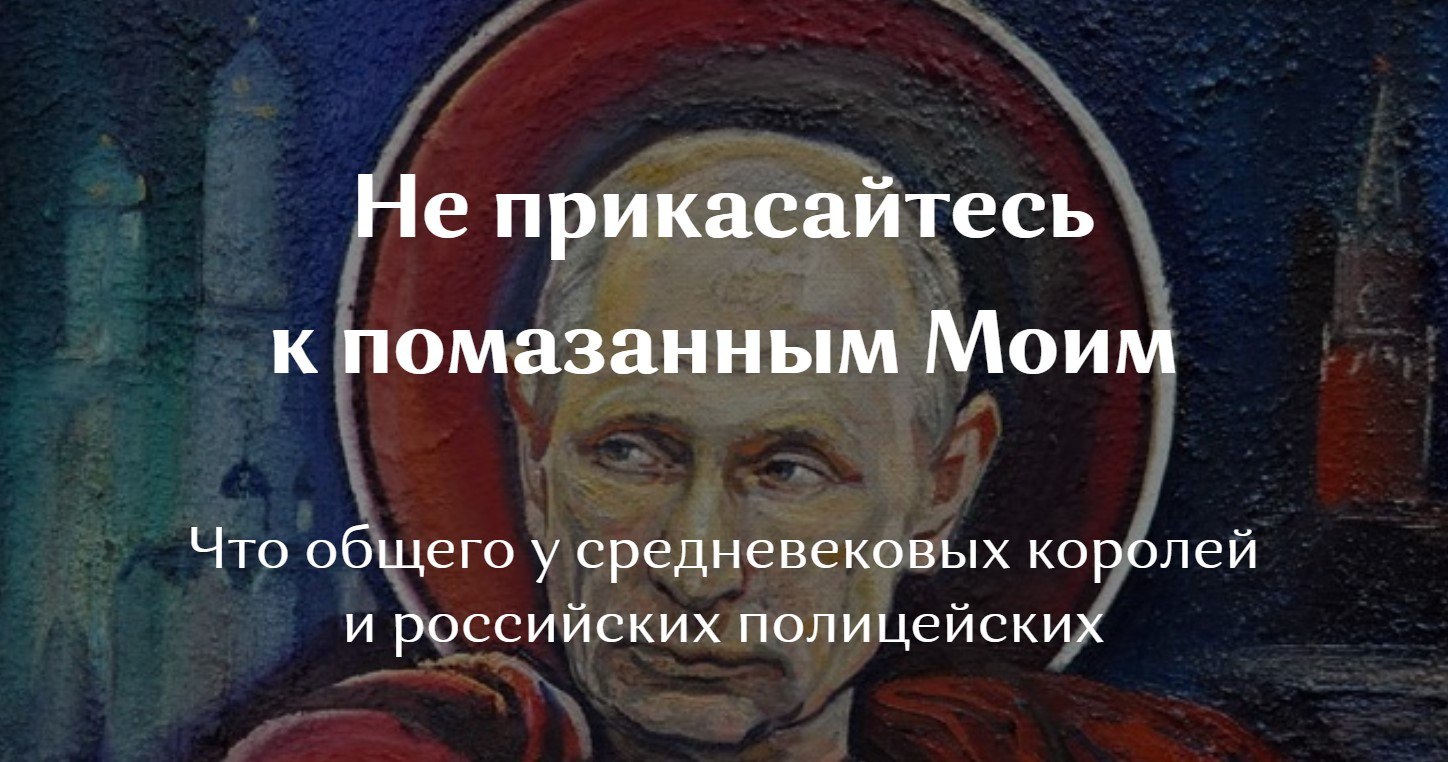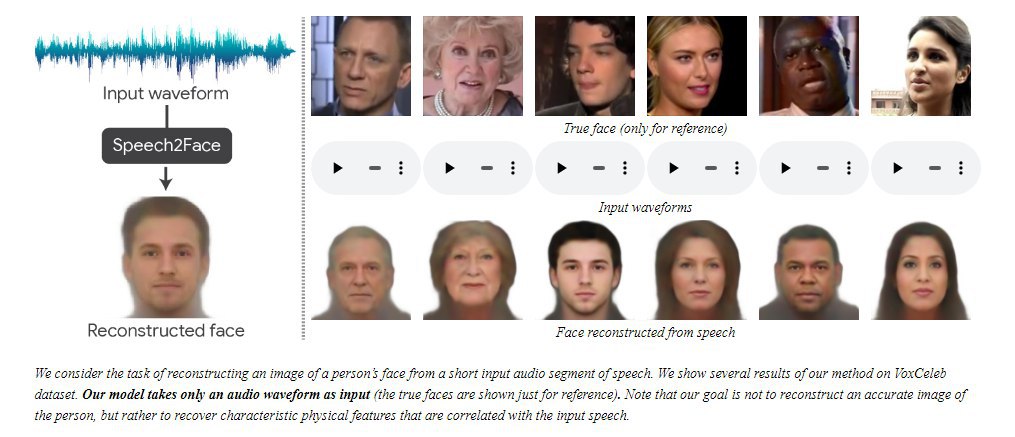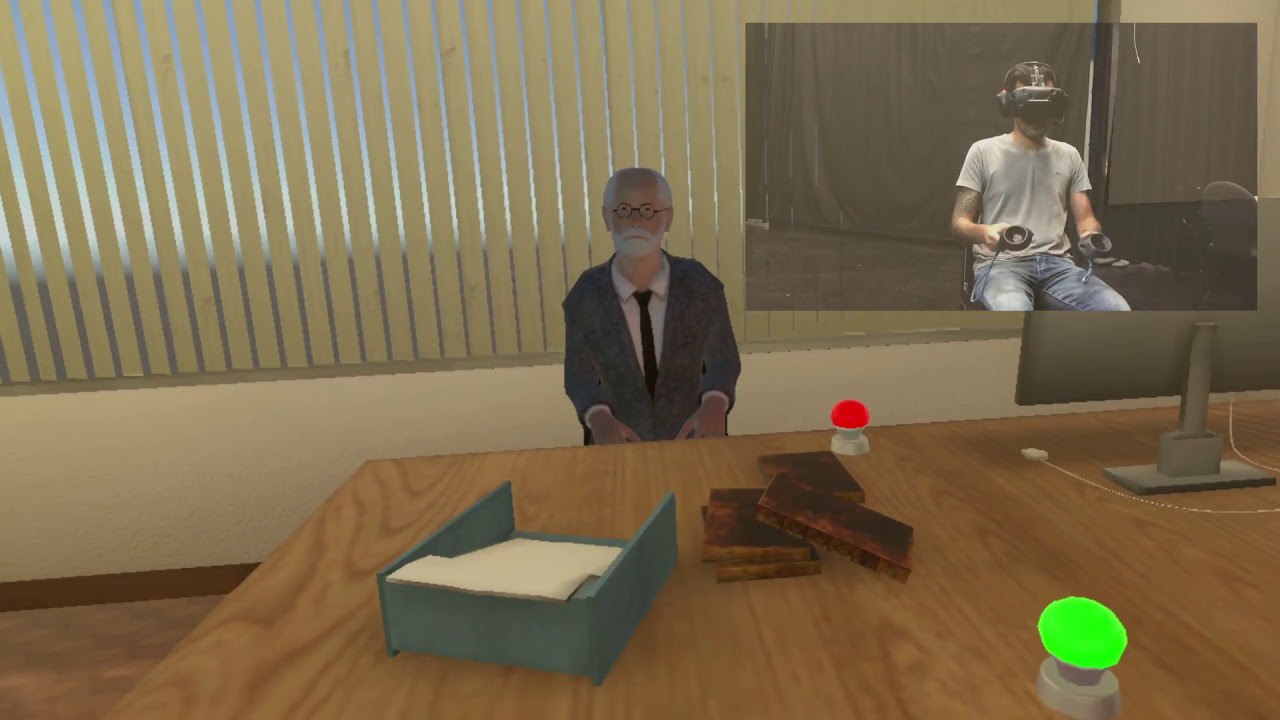Люди часто воспринимают привычные нам формы потребления информации как нечто само собой данное, но что если современное нам искусство и культура (даже массовая) всего лишь результат случайного стечения обстоятельств? Сегодня в
статье на Горьком был вот такой примечательный отрывок:
«Интересно и важно отметить, что крестьяне в XVII — начале XX в. не воспринимали мир в прямой перспективе. Е. А. Андреева-Бальмонт (1867–1950), переводчица, жена поэта К. Д. Бальмонта, во второй половине 1880-х гг. работала библиотекарем в московских воскресных школах для работниц, недавно пришедших из деревни, и заметила много „странного” в их восприятиях: ученицы не узнавали на картинках элементы знакомого мира, не различали оттенков красок. „Наши ученицы, все взрослые не понимали, что изображено на самых простых картинках в книге. Например, стоит мальчик на углу улицы под уличным фонарем, около него собака. В такой картинке, казалось, не было незнакомого — наши ученицы, особенно молоденькие, родились и выросли в Москве и каждый день на улице могли видеть мальчика с собакой, но ни одна из них не могла рассказать, что изображено на такой картинке. „Видите мальчика? Собаку” — спрашивала я их. Они вертели картинку в руках и молчали. „Вот собака”, — показывала я пальцем на нее. Тогда кто-нибудь восклицал с удивлением: „Никак и впрямь песик, на скажи, пожалуйста, песик и есть...” И книга шла по рукам, и собаку на картинке узнавали».
Вроде бы что-то поразительное, но я давным давно читал отрывок из книги
Маклюэна «Галактика Гутенберга», где описывались сложности восприятия видео и киноматериалов. коренным населением Африки не знакомого с европейской культурой.
«В ходе исследований обнаружились интереснейшие вещи. Оказывается, кинофильм, который является западным продуктом, сложным для неподготовленного восприятия. Мы обнаружили, что если вы показываете африканской аудитории двух действующих лиц и один из них, сделав своё дело, уходит из кадра, то аудитория хочет знать, что с ним случилось дальше. Они не могли понять, что этот персонаж больше не нужен для изображаемой истории, и желали знать, что с ним произошло. Поэтому нам пришлось придумывать продолжение, вставляя массу ненужного нам материала, например, прослеживать его движение по улице, до того как он свернёт за угол. Нельзя было позволить ему просто уйти из кадра, надо было дождаться, пока он сам свернёт за угол. Тогда это становилось понятным. Действия должны были развиваться естественным порядком.
Есть один весьма существенный момент, о котором мы тогда не знали, а именно: африканцы очень искусны в разыгрывании ролей. Важную часть детского образования в дописьменном обществе составляет ролевая игра; дети должны уметь играть роли взрослых в различных заданных ситуациях. Но нам повезло в другом. Мы обнаружили, что африканцы очень хорошо воспринимают мультипликационные фильмы. Поначалу это нас озадачило, но разгадка быстро отыскалась. Дело в том, что кукольные представления являются обычной формой их досуга».
А разгадка проста, то что мы считаем извечным и постоянным, вроде восприятия картин и кино, это социальный конструкт, которому нас учат. То КАК мы смотрим на картину, что мы ВИДИМ на ней, как это воспринимаем, всему этому нас учили всё наше детство. Мы учились этому у родителей, мы учились этому в школе, мы выросли на именно таком телевидении и приёмах передачи мыслей.
Это не что-то заложенное, это приобретенное. Нет какой-то ветки технологий, которые необходимо открыть, чтобы подняться на другой уровень. Если бы Европа погибла в средние века от чумы, то человечество бы возможно никогда не услышало про реализм, а господствующим направлением искусства был бы какой-нибудь афро- или даже ацтекофутуризм.
И правых традиционалисты в соцсетях с аватарками из статуй кетсалькоатлей и каменных голов тольтеков постили мемосы, где славные мезоамериканские пирамиды сравнивались с убогими развалинами античности. И белоснежные статуи греков (которые исторически были вовсе не белоснежными) воспринимались бы как нелепые поделки тупых варваров