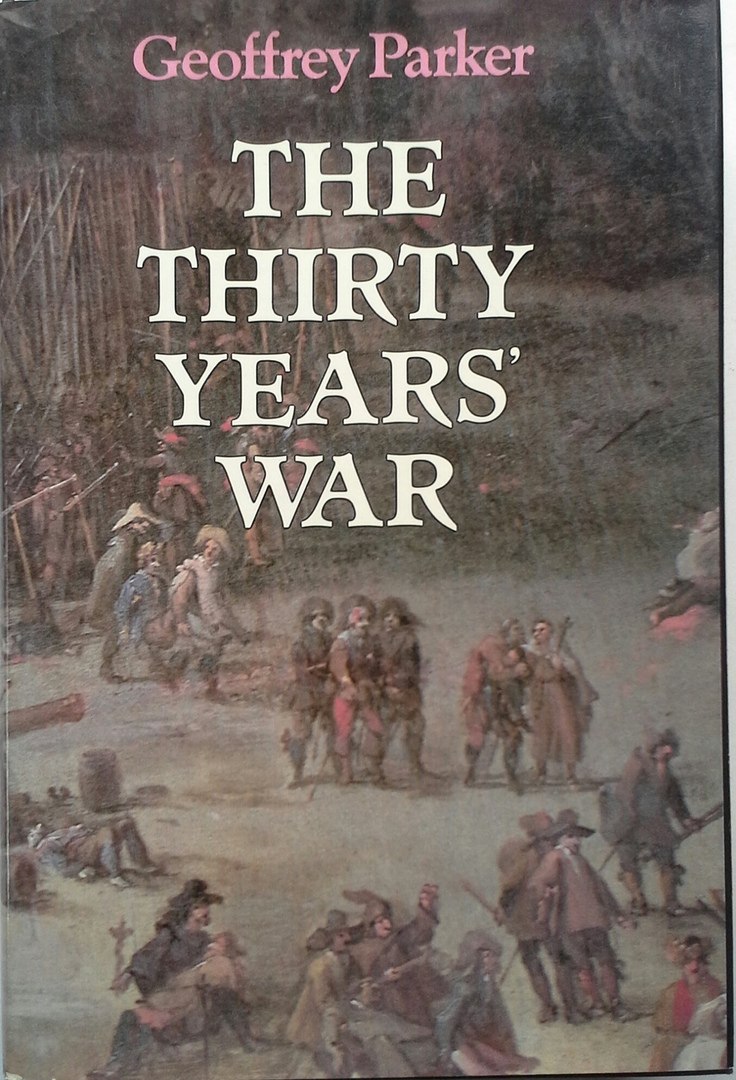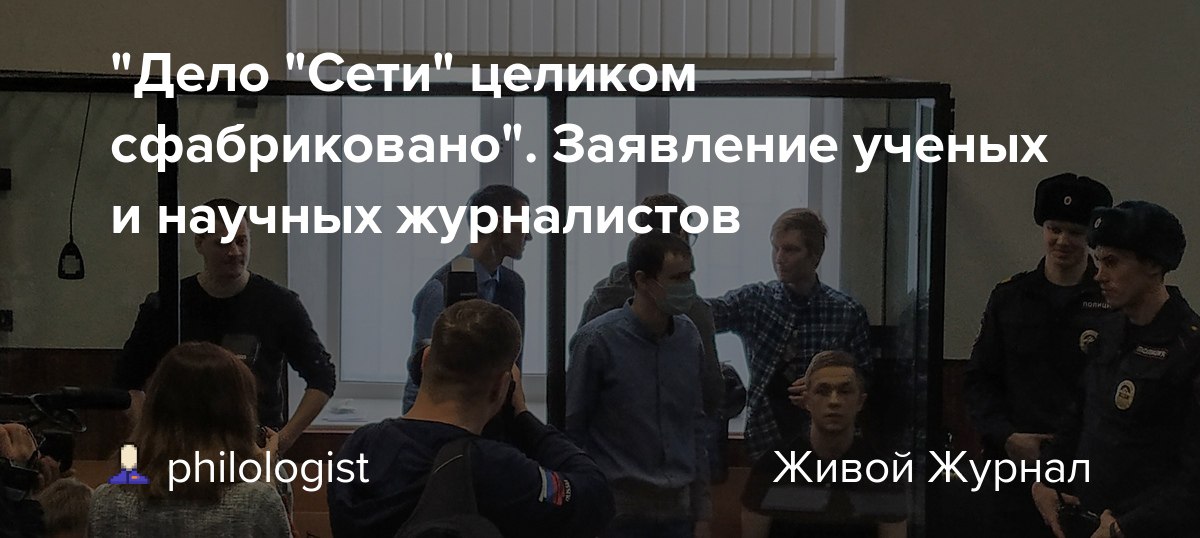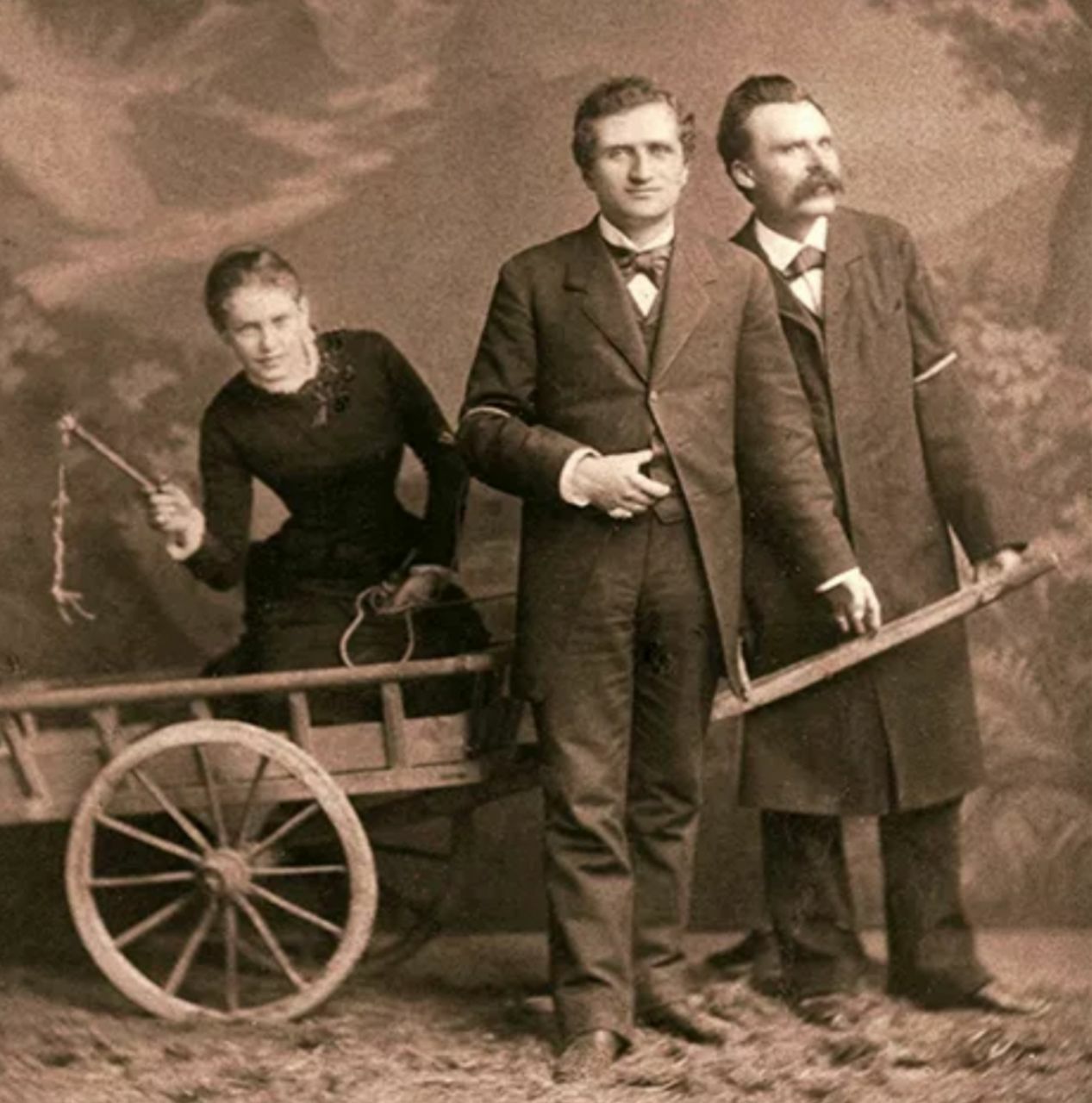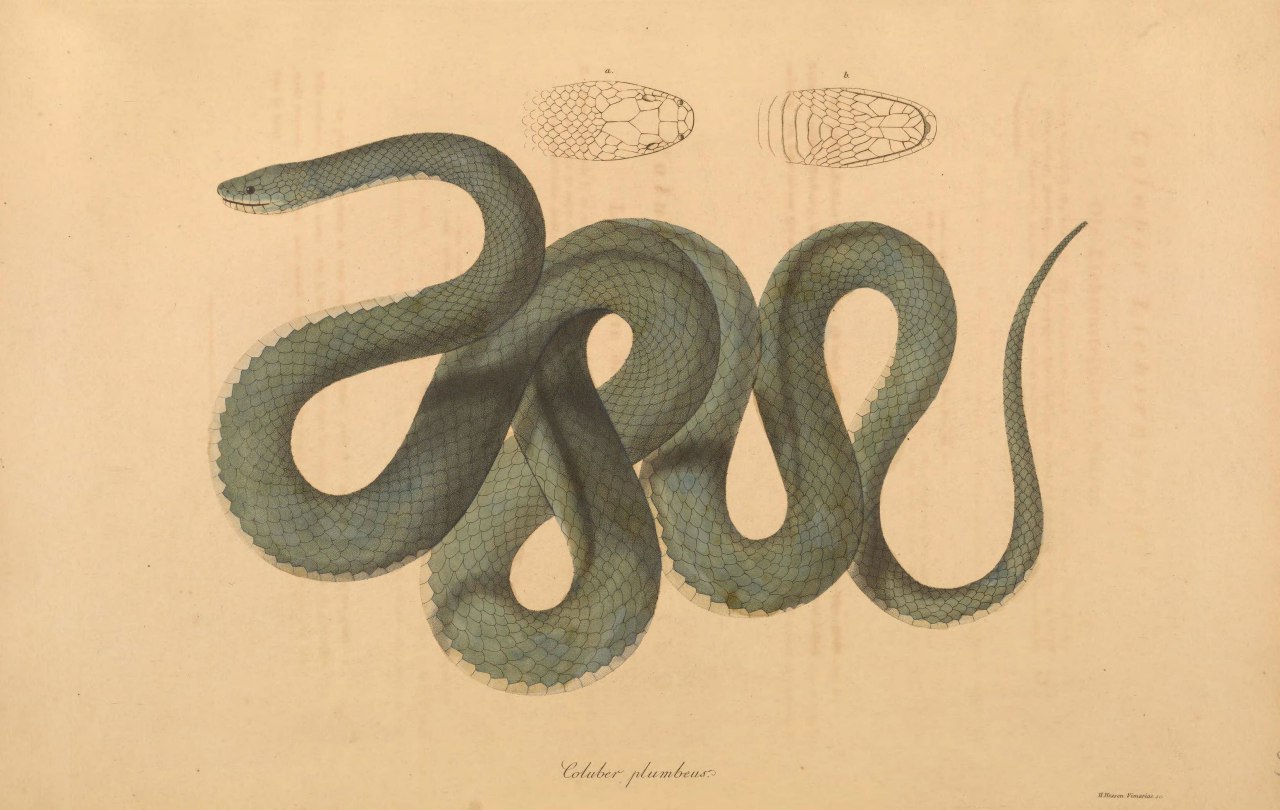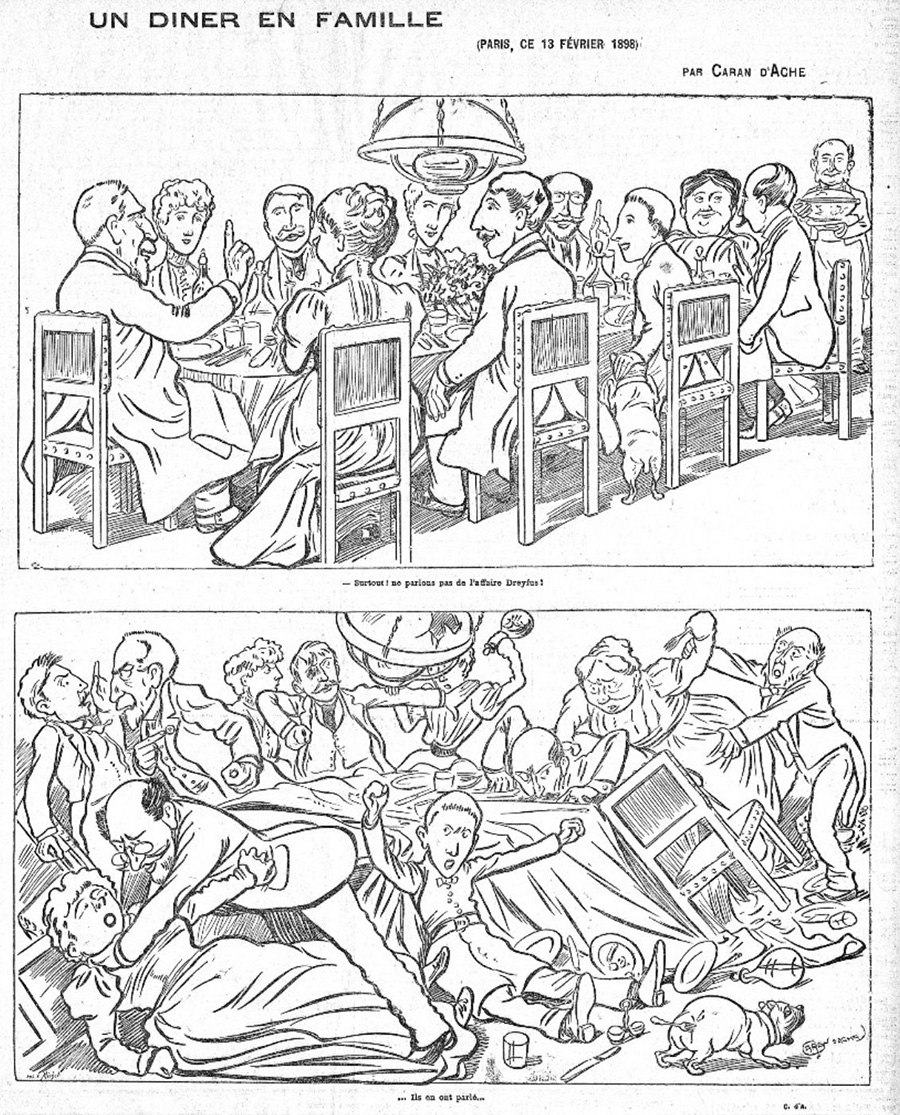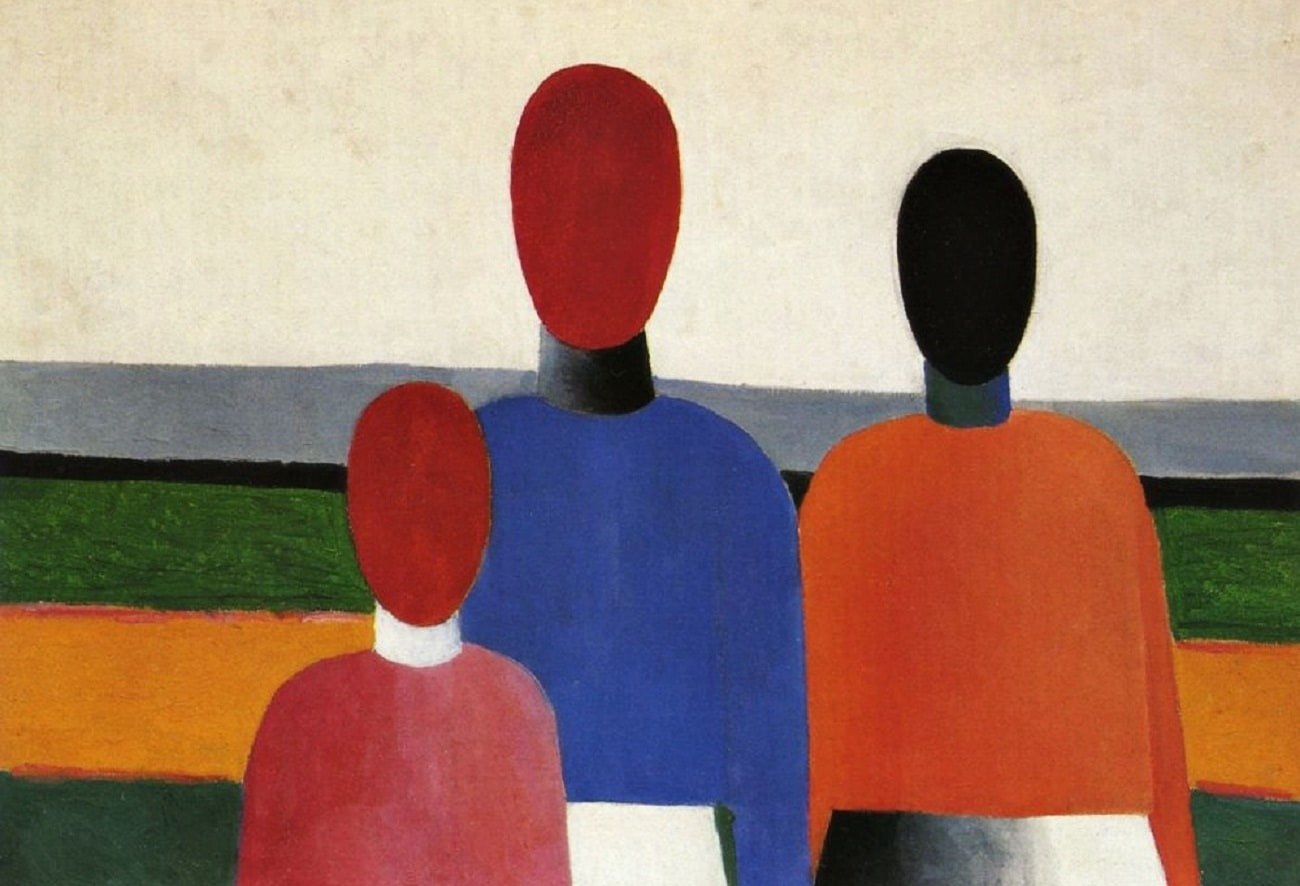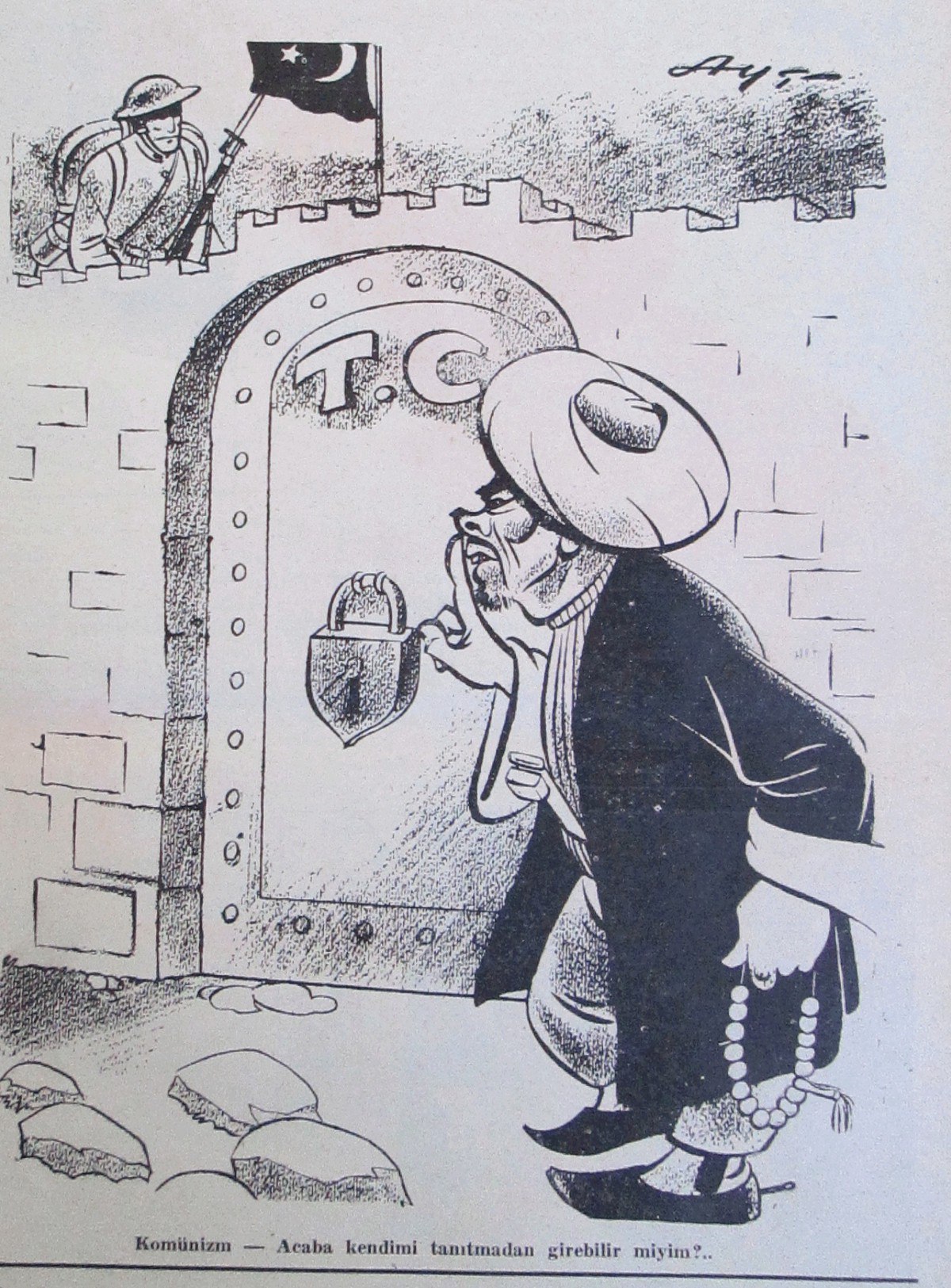Если поставить гендерные отношения в центр истории эволюции человека, откроется картина, отличная от патриархальной модели. По мнению ряда исследователей, гендерный эгалитаризм оказывается определяющим фактором эволюции наших предков, владевших языком. Камилла Пауэр, старший лектор Университета Восточного Лондона и член группы радикальной антропологии разбирается, какие существуют доказательства эгалитарности ранних человеческих обществ, какие эгалитарные особенности имеют наши анатомия, история и психология, как язык, большой мозг и «маккиавелический ум» доказывают наличие длительного периода «первобытного» коммунизма и почему именно гендерное равноправие сыграло роль в формировании нас как вида.
«Какие эгалитарные особенности имеют наши анатомия, история и психология?
1 Наши глаза. Мы единственный из более двухсот видов приматов, развивший глаза продолговатой формы с ярким белым цветом склер и темной радужной оболочкой. Известные как «кооперативные глаза», они позволяют всем, с кем мы общаемся, легко увидеть то, на что мы смотрим. Напротив, большие человекообразные обезьяны имеют круглые темные глаза, что затрудняет суждение о направлении взгляда.
2 Интерсубъективность. Наши глаза приспособлены для чтения мыслей друг друга. Это также называется интерсубъективностью. Глаза наших ближайших родственников исключают такую возможность. С самого раннего возраста для нас совершенно естественно смотреть в глаза друг другу, спрашивая «Можешь ли ты видеть то, что вижу я?» и «Думаешь ли ты о том, что я думаю?».
3 Матери и другие. Наиболее убедительное объяснение того, как, когда и почему развились интерсубъективность и кооперативные глаза, дала Сара Харди в выдающейся кге(2009). Мы ухаживаем за детьми во всех человеческих обществах, матери с радостью передают свое потомство другим для временной опеки. Африканские охотники-собиратели поддерживают коллективную форму ухода за детьми, что свидетельствует о том, что это было обычным явлением в нашем наследии. Зато матери больших человекообразных обезьян (шимпанзе, бонобо, гориллы и орангутанги) не отпускают своих детей. Они не решаются рисковать.
4 Бабушки, менопауза и детство. Это особенно касается человекообразных обезьян. Другие виды обезьян ведут себя иначе, они готовы оставить детеныша с родственником, которому доверяют. Ключевым фактором является то, насколько близко родственны особи. Матери-обезьяны Старого Света обычно живут с родственницами женского пола; матери крупных человекообразных обезьян так не делают. Это означает, что у матерей человекообразных обезьян нет никого, кому они могут достаточно доверять. Это говорит нам что-то важное о социальных условиях, в которых мы эволюционировали. Наши праматери, пожалуй, жили рядом с родственниками, которым могли доверять. Самой надежной помощницей среди них была мать молодой матери. Эту 1 Наши глаза. Мы единственный из более двухсот видов приматов, развивший глаза продолговатой формы с ярким белым цветом склер и темной радужной оболочкой. Известные как «
кооперативные глаза», они позволяют всем, с кем мы общаемся, легко увидеть то, на что мы смотрим. Напротив, большие человекообразные обезьяны имеют круглые темные глаза, что затрудняет суждение о направлении взгляда.
2 Интерсубъективность. Наши глаза приспособлены для чтения мыслей друг друга. Это также называется интерсубъективностью. Глаза наших ближайших родственников исключают такую возможность. С самого раннего возраста для нас совершенно естественно смотреть в глаза друг другу, спрашивая «Можешь ли ты видеть то, что вижу я?» и «Думаешь ли ты о том, что я думаю?».
3 Матери и другие. Наиболее убедительное объяснение того, как, когда и почему развились интерсубъективность и кооперативные глаза, дала Сара Харди в выдающейся кге(2009). Мы ухаживаем за детьми во всех человеческих обществах, матери с радостью передают свое потомство другим для временной опеки. Африканские охотники-собиратели поддерживают коллективную форму ухода за детьми, что свидетельствует о том, что это было обычным явлением в нашем наследии. Зато матери больших человекообразных обезьян (шимпанзе, бонобо, гориллы и орангутанги) не отпускают своих детей. Они не решаются рисковать.
4 Бабушки, менопауза и детство. Это особенно касается человекообразных обезьян. Другие виды обезьян ведут себя иначе, они готовы оставить детеныша с родственником, которому доверяют. Ключевым фактором является то, насколько близко родственны особи. Матери-обезьяны Старого Света обычно живут с родственницами женского пола; матери крупных человекообразных обезьян так не делают. Это означает, что у матерей человекообразных обезьян нет никого, кому они могут достаточно доверять. Это говорит нам что-то важное о социальных условиях, в которых мы эволюционировали. Наши праматери, пожалуй, жили рядом с родственниками, которым могли доверять. Самой надежной помощницей среди них была мать молодой матери. Эту «гипотезу бабушки» используют д
ля объяснения нашего долгого пострепродуктивного периода жизни – эволюции менопаузы.
Дети эволюционировали совместно с бабушками. Детство – это период после отлучения младенца от груди и до того, как у ребенка появляются постоянные зубы. В это время детям нужна помощь в поиске пищи, которую они могут переварить, именно с этим и помогает бабушка. Таким образом, в контексте эволюции мать матери оказала большое влияние на выживание ребенка, в то время как мать могла начать цикл рождения следующего ребенка. Это привело к особым чертам «сложенных» (англ. stacked) человеческих семей, где мать одновременно имеет несколько зависимых потомств. У других матерей больших человекообразных обезьян очень долгие промежутки между рождениями. Они кормят каждого детеныша грудью, пока он не станет самостоятельным ребенком. У человекообразных обезьян нет детства в смысле благоприятного переходного периода. В этом возрасте многие из них погибнут.
Харди показывает, как опека многих матерей определила эволюцию уникальной психологической природы нашего вида» https://monocler.ru/gendernoe-ravenstvo-i-problema-proishozhdeniya-cheloveka/