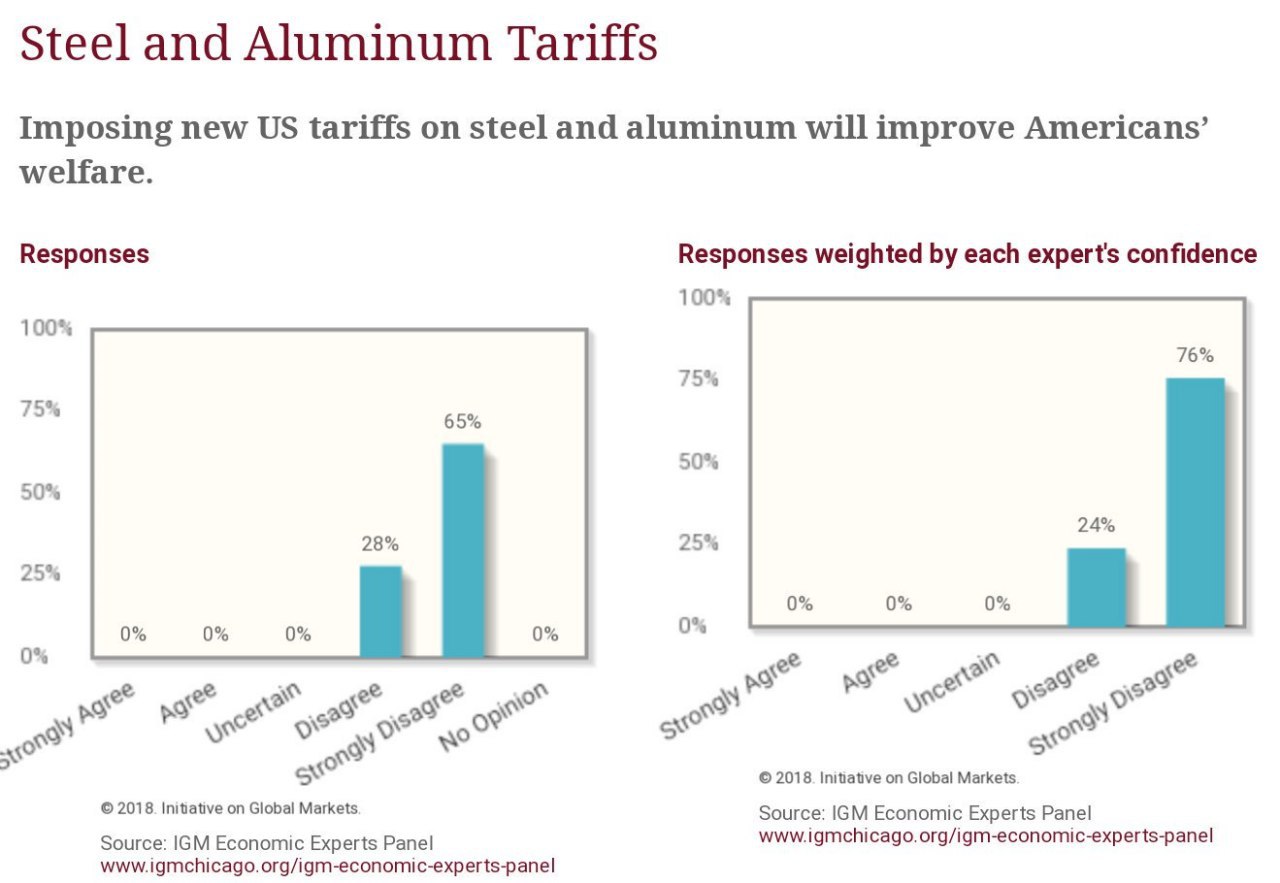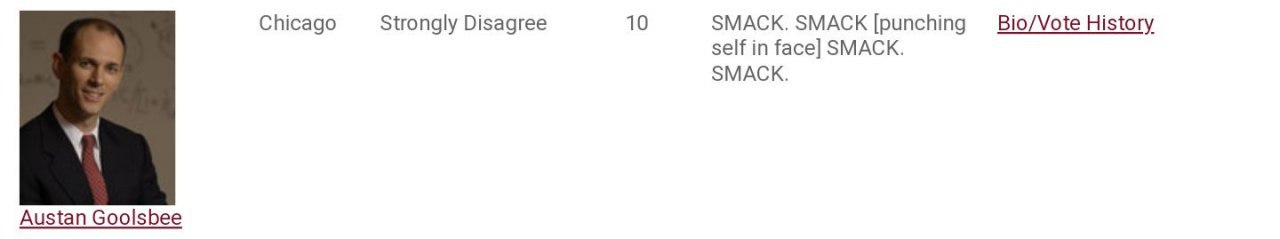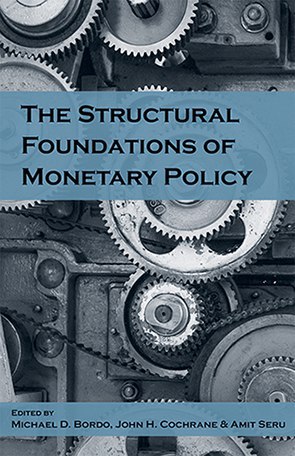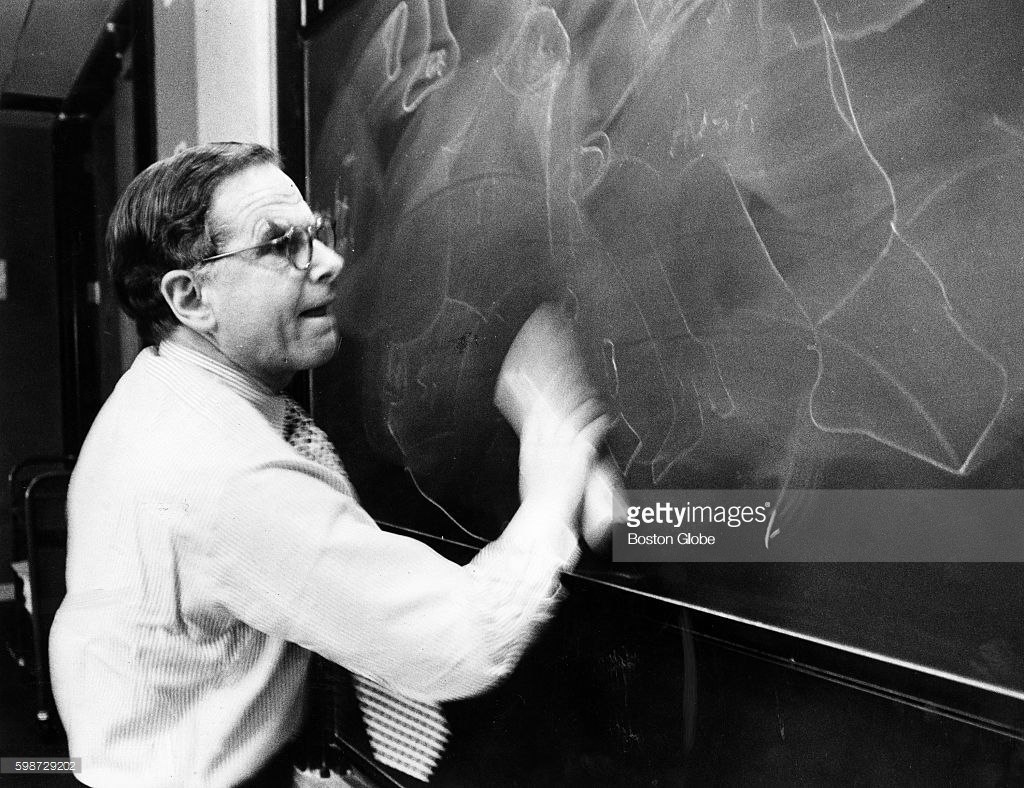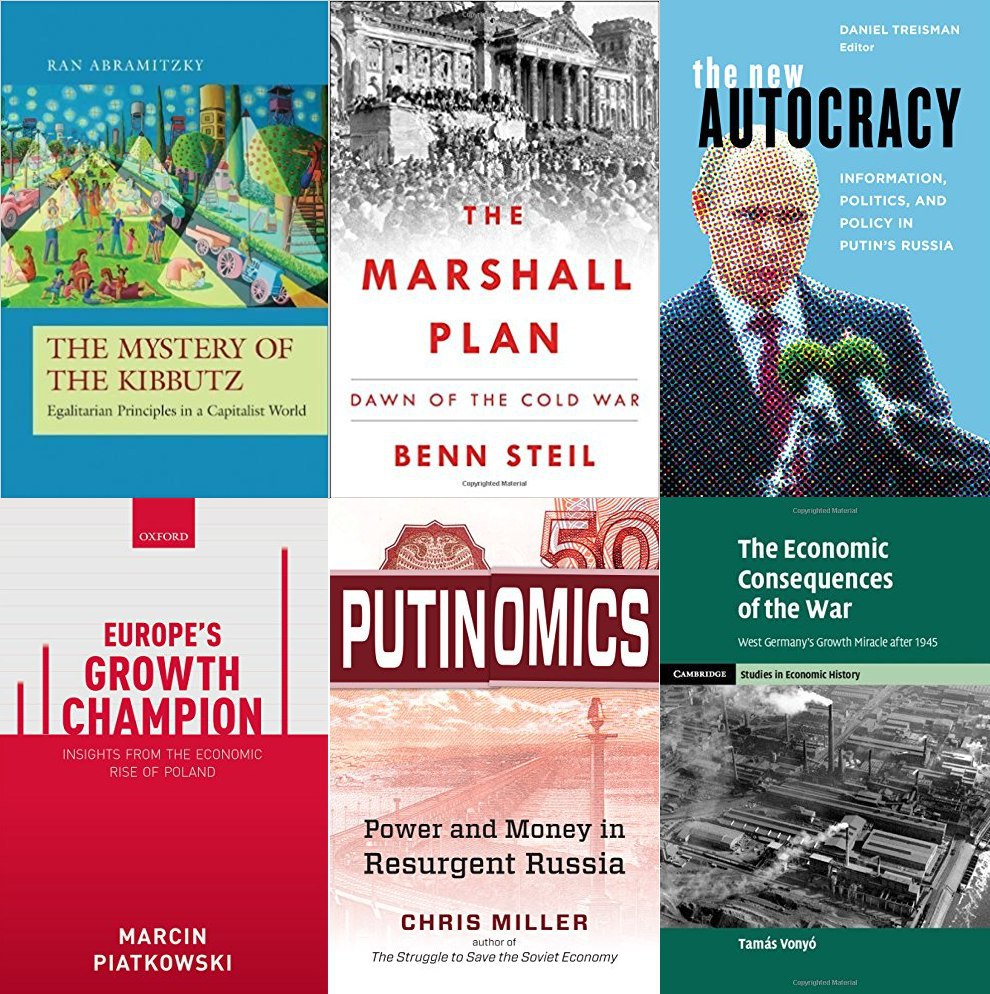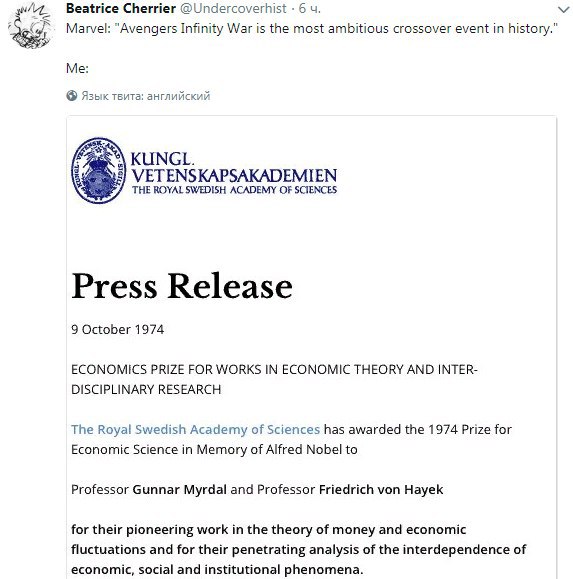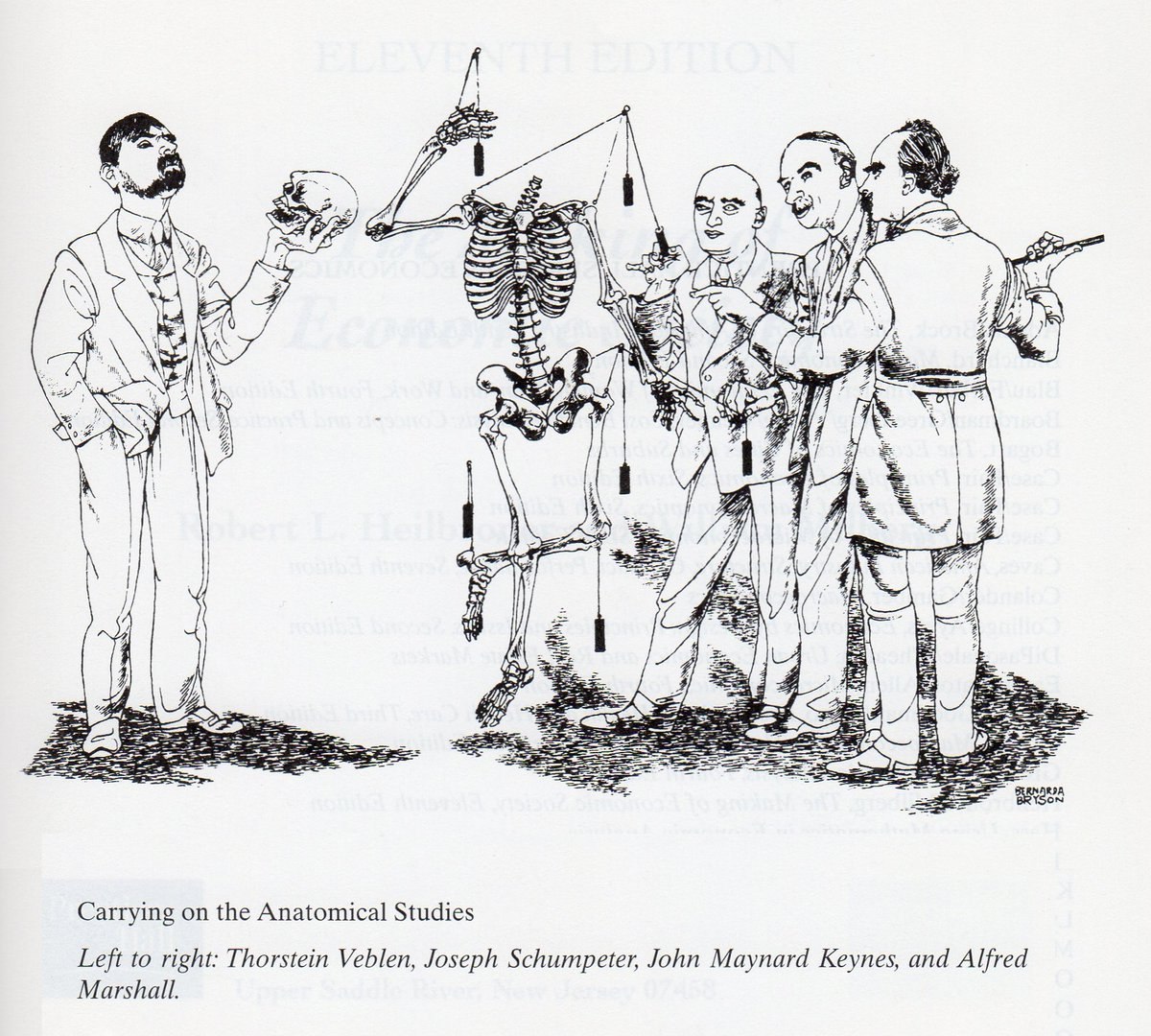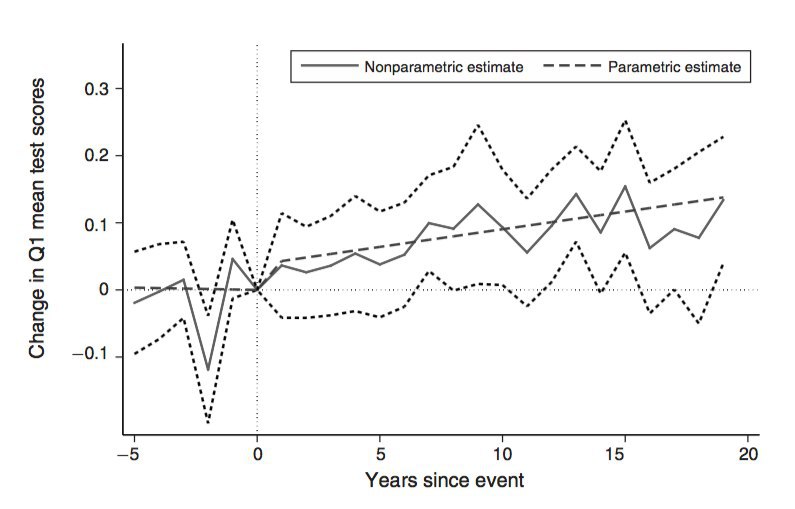В новом номере History of Political Economy отличная статья Элизабет Берман из SUNY о том, как экономисты выиграли от дерегулирования при Рейгане. Мы привыкли думать о дерегулировании как о такой ситуации, когда людям разрешаются действовать по собственному усмотрению, без вмешательства государства – а значит, эксперты становятся не нужны. На практике картина была чуть более сложной.
Берман рассказывает историю о двух группах экономистов, сформировавшихся в Вашингтоне в 1970-е годы. Первая группа – так называемый «системный анализ» – вышла из корпорации RAND и стремилась применять анализ издержек и выгод для оценки политических мер. Офисы программного планирования стали возникать в самых различных агентствах, от природоохранных до образовательных. Вторая группа – теоретики отраслевых рынков (I/O). Когда мы говорим об отраслевых рынках, мы думаем, прежде всего, о Чикаго – и о таких экономистах, как Джордж Стиглер, Аарон Директор или Сэм Пельцман. Но в политике гораздо более влиятельными оказались экономисты из Гарварда – Джо Бейн, Мёртон Пек, Ричард Кейвз. (Прослушавшие курс по IO могут помнить про «постулат Бейна-Сайлоса» – идею, что фирма, входящая на рынок, предполагает, что уже укоренившиеся на рынке фирмы не будут менять выпуск – сегодня эта идея отброшена в пользу равновесий, совершенных в подыграх.) На пересечении этих двух групп сформировался специфический климат идей об экономической политике.
Дерегулирование экономики началось уже при администрациях Форда и Картера, под руководством специалистов по IO из Гарварда. Но во второй половине 1970-х годов стало понятно, что значительная часть регулирования является не экономическим, а социальным – принимались законы о защите окружающей среды, гигиене рабочих мест, гарантии занятости. В этих условиях всё больше влияние приобретает American Enterprise Institute – тесно связанный как с «системщиками» (Чарльз Шульце), так и с IO (наиболее влиятельным из них станет архитектор дерегулирования авиаперевозок Альфред Кан, о котором Маккроу так прекрасно написал в «Пророках регулирования»). Рейган продолжил курс на дерегулирование экономики, но в социальной сфере он придерживался подхода «облегчения регулирования» - то есть регулирование не изменялось, а полностью отменялось.
Стандартным подходом стал анализ издержек и выгод от всех регулятивных мер. Это означало, что даже в условиях сокращений бюджета государственные агентства нанимали всё больше экономистов! В экономические агентства экономисты привносили свои научные идеи, а в социальные – «экономический образ мышления», тесно связанный с анализом издержек и выгод. К сожалению, по мнению Берман, последствия были неоднозначными. Нередко экономисты лишь «оправдывали уже принятые за них решения». Большие полномочия, в том числе право вето на новое регулирование, приобретает Управление информации и регулирования (OIRA), которое быстро становится известным как площадка для отраслевых лоббистов и «место, где умирает регулирование». Рост занятости среди экономистов, однако, привёл к их институционализации в вашингтонской бюрократии, которую даже при Кеннеди нельзя было и представить. Это имело важные последствия для будущего: такие идеи, как аукционы частот, торговля выбросами CO2 или поведенческие «подталкивания» находят свой путь в тексты законов именно через те управления, которые создавались при Рейгане.