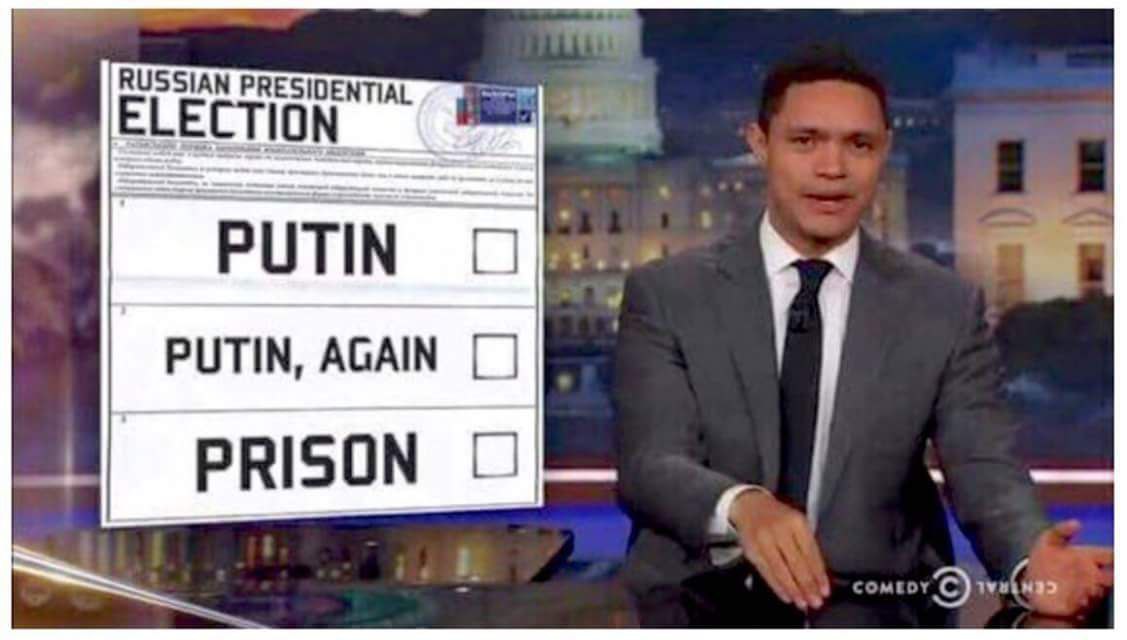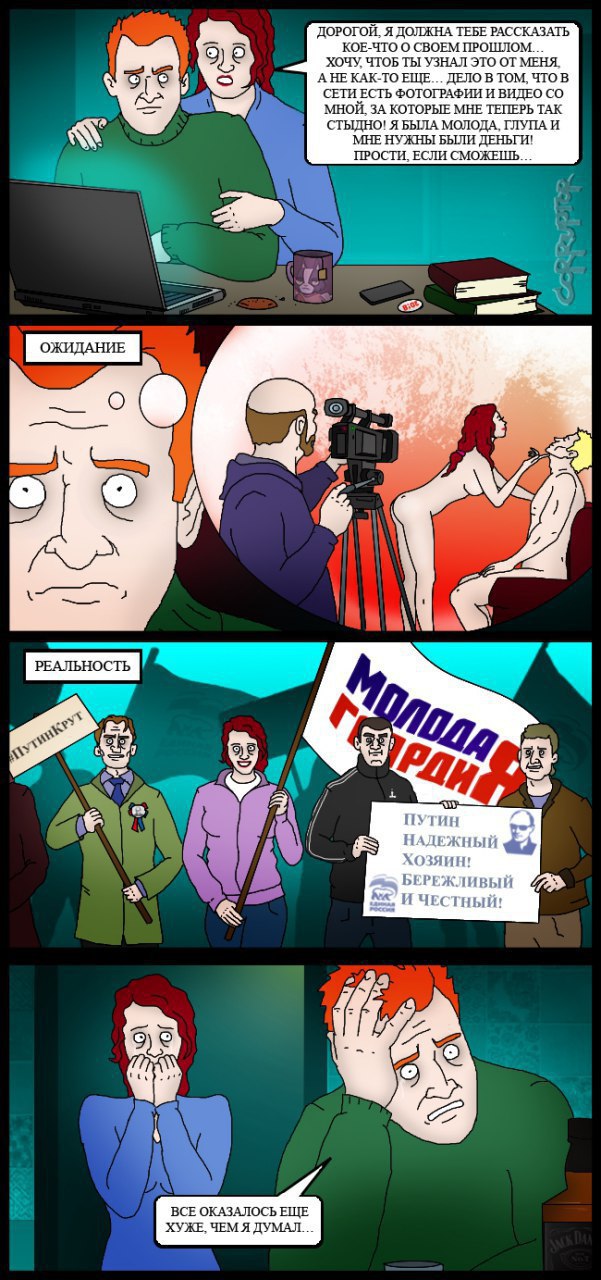🏦Увы, сегодня имеется важный аспект, которого раньше в этой игре не было: раздутые балансы центральных банков. По данным Банка международных расчётов, с 2008 по 2017 годы совокупные активы на балансах центральных банков в крупнейших развитых странах (США, еврозона и Япония) выросли на $8,3 трлн. Поскольку номинальный ВВП в тех же самых странах вырос за этот период лишь на $2,1 трлн, оставшиеся $6,2 трлн избыточной ликвидности вызвали искажение цен на финансовые активы по всему миру.
Здесь-то и таится суть проблемы. Реальная экономика искусственно стимулировалась искажёнными ценами на финансовые активы. В таких условиях слишком медленная нормализация монетарной политики лишь продлит данную зависимость. А когда балансы центральных банков, в конце концов, начнут сокращаться, страны, чья экономика зависит от финансовых активов, вновь окажутся в опасности. При этом риски, по всей видимости, будут сегодня намного серьёзней, чем десятилетие назад, и не только из-за возникшего навеса раздутых балансов центральных банков, но и из-за переоценённости активов.
Всё это особенно касается США. Согласно расчётам лауреата Нобелевской премии по экономике Роберта Шиллера, циклически скорректированный коэффициент «цена акции/прибыль» (CAPE) сегодня составляет 31,3, что примерно на 15% выше, чем в середине 2007 года, то есть накануне ипотечного кризиса в США. Более того, коэффициент CAPE был выше, чем сегодня, лишь дважды за почти 135 лет его истории — в 1929 и 2000 годах. Это не самые обнадёживающие прецеденты.
Как было наглядно показано в 2000 и 2008 годах, рынки переоценённых активов могут с лёгкостью резко упасть. И именно здесь появляется на сцене третья мегатенденция — мучительная коррекция глобальной структуры сбережений. В нашем случае в центре внимания оказываются Китай и США — две полярных крайности в мировом распределении сбережений.
Китай сейчас перешёл в режим поглощения сбережений: внутренний уровень сбережений упал с пикового значения 52% в 2010 году до 46% в 2016 году, и, по всей видимости, он опустится до 42% (или даже ниже) в ближайшие пять лет. Китайский профицит сбережений всё активней направляется внутрь страны на поддержание потребителей растущего среднего класса; тем самым, он становится всё менее доступным для финансирования дефицита сбережений в других странах мира.
С другой стороны, власти США, страны с самым большим дефицитом сбережений в мире (её уровень внутренних сбережений равен всего лишь 17%), встали на путь бюджетного стимулирования. Это приведёт к дальнейшему снижению уровня общих национальных сбережений, несмотря на все заверения сторонников теории стимулирования рыночного предложения, которые обещают, что предлагаемые ими меры сами себя окупят. Будучи амортизаторами шоков, переоценённые финансовые рынки, скорее всего, окажутся сдавлены арбитражными операциями между странами с крупнейшим профицитом и дефицитом сбережений. А реальная экономика — там, где она попала в зависимость от финансовых активов, — не сильно будет от них отставать.
В таких обстоятельствах очень важно подчеркнуть, что мировая экономика, наверное, совсем не так устойчива, как следует из возникшего сейчас экспертного консенсуса, а это вызывает вопрос: насколько она в состоянии справится с проблемами, которые ей грозят в 2018 году. Прогнозы МВФ обычно являются хорошим индикатором глобального консенсуса. И на первый взгляд свежие прогнозы МВФ выглядят обнадёживающими: ожидается рост мирового ВВП на 3,7% в 2017-2018 годах, то есть ускорение роста на 0,4 процентных пункта по сравнению с анемичными темпами 3,3% в течение двух предыдущих лет.
Однако будет натяжкой считать это энергичным ростом мировой экономики. Такой результат не просто мало чем отличается от усредненных темпов роста в период после 1965 года — 3,8%. Ожидаемый подъём в течение 2017-2018 годов последует за исключительно слабыми темпами восстановления экономики после Великой рецессии; а что самое важное, после замедления усреднённых темпов роста до всего лишь 1,4% в 2008-2009 годах. Это был беспрецедентный спад относительно долгосрочного тренда.
goo.gl/U8uJNg