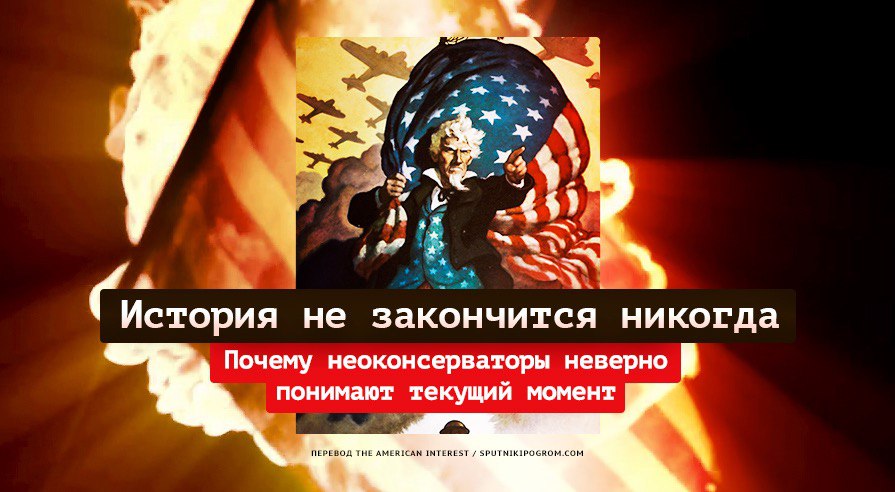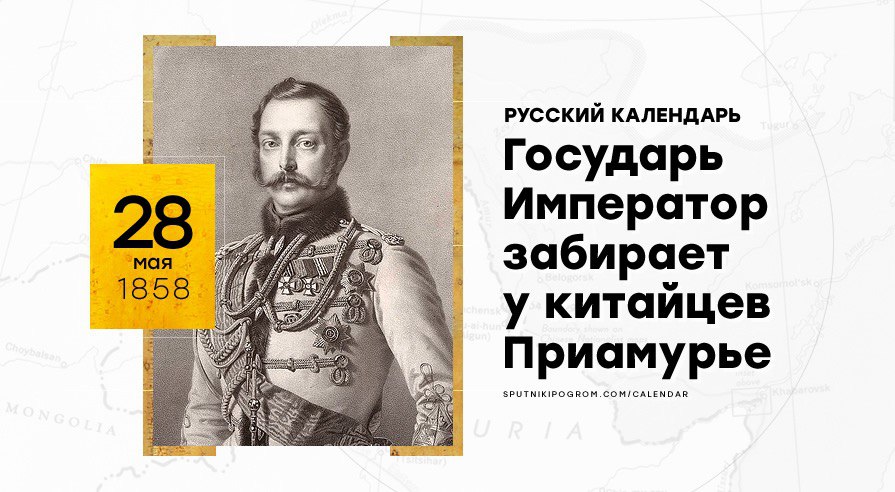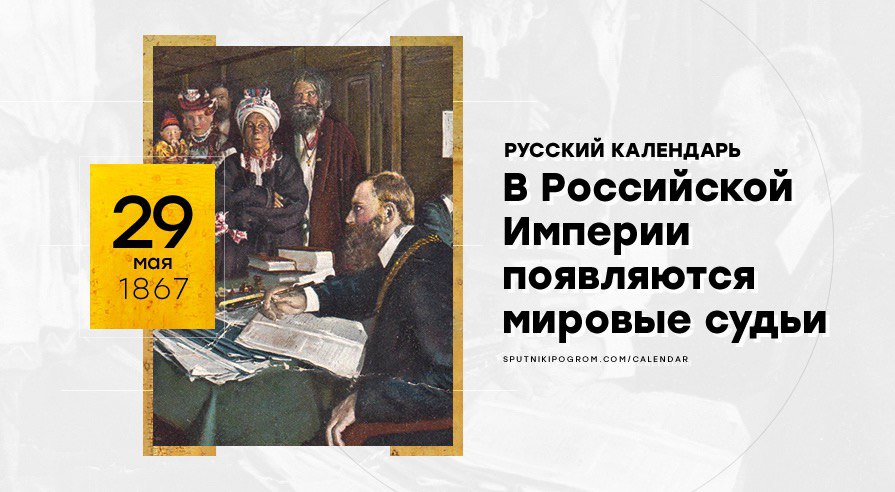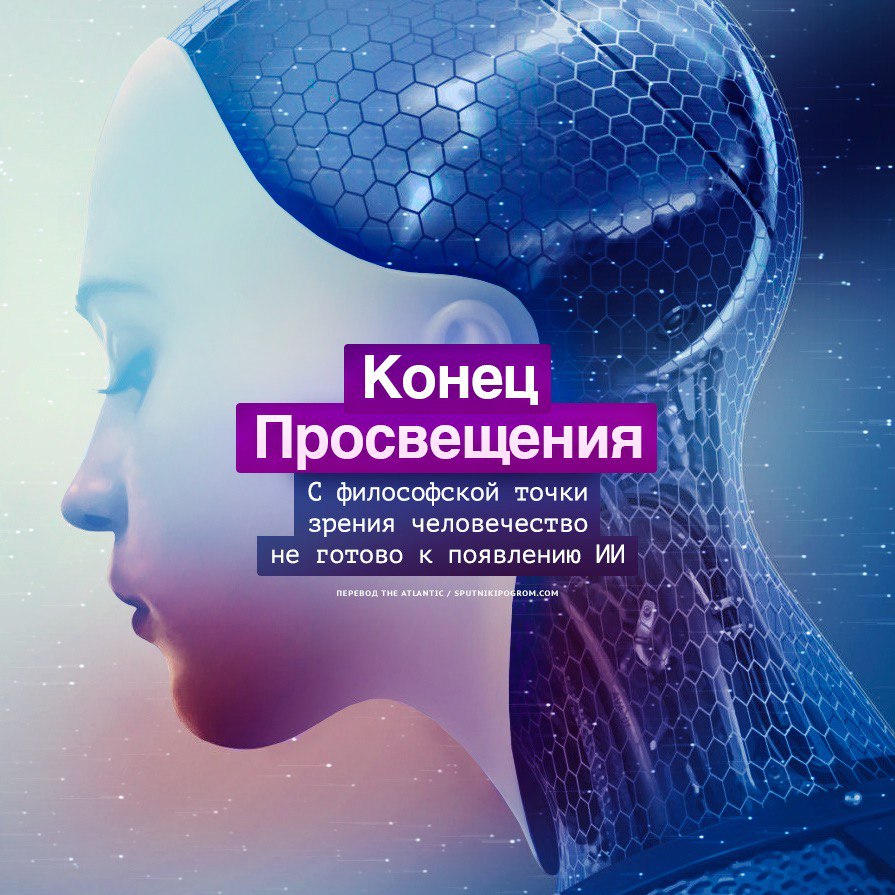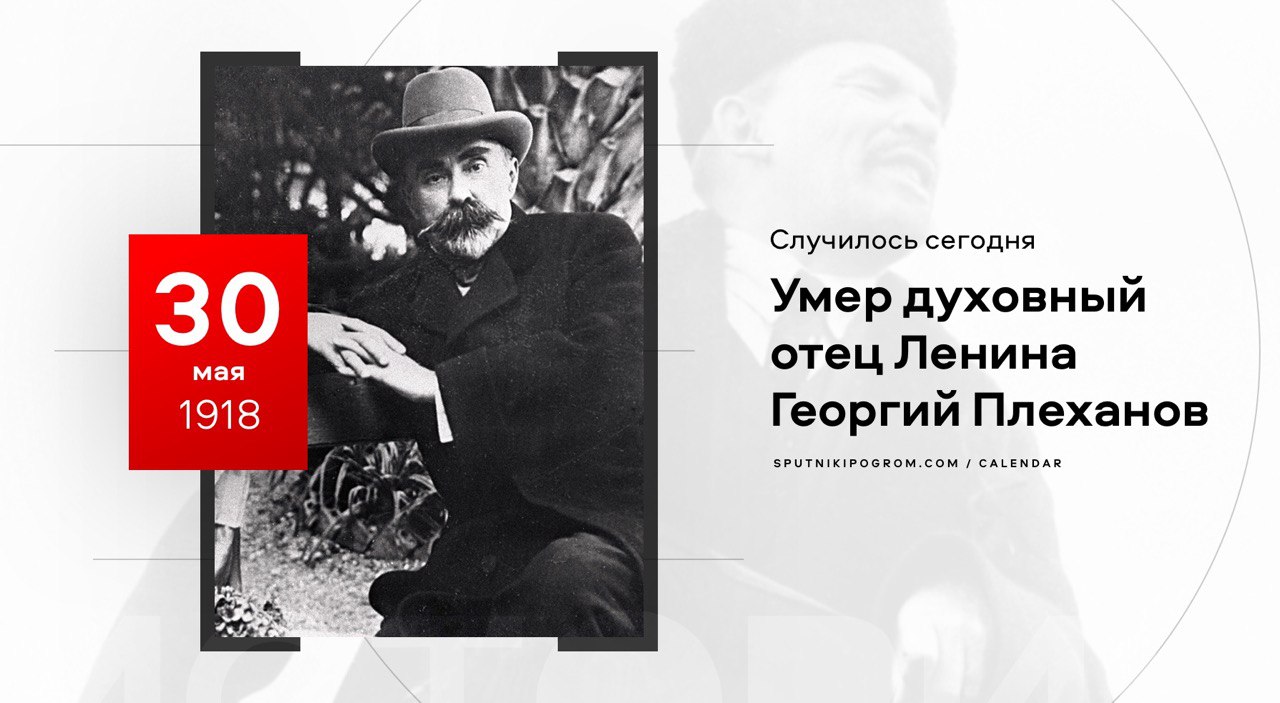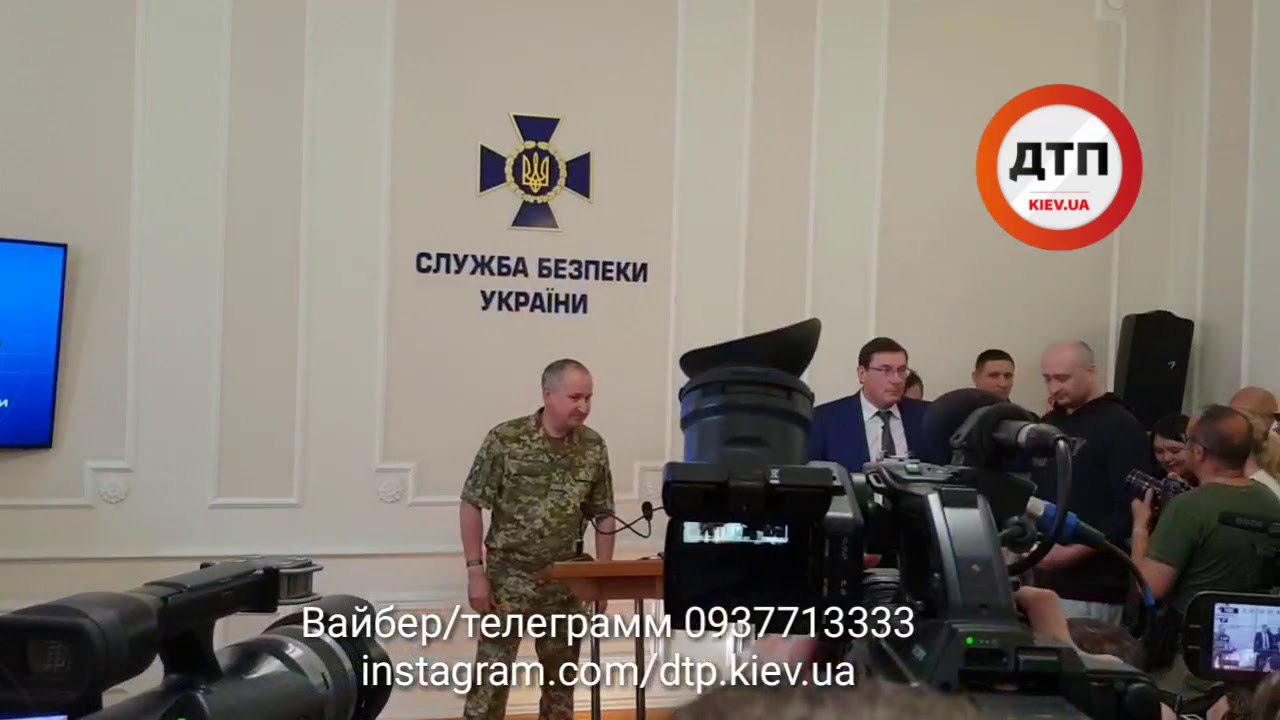Size: a a a
2018 May 26

26 мая 1905 года погиб Савва Морозов — один из богатейших людей Российской Империи и человек, спонсировавший едва ли не все оппозиционные и революционные движения в стране и считавшийся неформальным лидером русского купечества. Загадочная гибель Морозова до сих пор вызывает споры.
Савва Морозов родился в 1862 году и принадлежал к клану Морозовых, которые считались одним из богатейших семейств. Морозовы были старообрядцами, поэтому в семье причудливо переплеталось архаичное прошлое и прогрессивное будущее. С одной стороны, детишки Морозовых учились в Кембридже и стажировались в Манчестере, с другой — в их роскошном особняке будто бы даже не было электричества, которое мадам Морозова-Симонова считала бесовскими штучками. История, конечно, спорная, тем не менее упоминания об этом встречаются. Еще встречаются утверждения, что Морозова-Симонова никогда не мылась из-за боязни принимать ванну и вместо этого обтиралась салфетками с одеколоном. В общем, у Морозовых царила своя атмосфера.
Савва окончил московскую гимназию, затем физико-математический факультет Московского университета, после чего учился в Кембридже. Вернувшись в Россию, возглавил перешедшую ему по наследству после смерти отца Никольскую мануфактуру, славившуюся на всю Россию.
Почти все Морозовы много отдавали на благотворительность. Савва же постепенно перешел от трат на трудящихся к тратам на политиков. Денег у него было очень много, и он их не жалел. Даже из школьных учебников хорошо известно, что Морозов давал деньги почти всем политическим направлениям, от конституционных монархистов до большевиков. Что на морозовские деньги издавалось как минимум три большевистских газеты, включая знаменитую «Искру». Что Морозов давал крупные суммы Горькому. Но при этом остаются неясными политические взгляды самого Морозова. Современники называли его в лучшем случае умеренным либералом-реформистом, а некоторые даже считали консерватором. Впрочем, Горький позднее уверял, что Морозов был стихийным революционером формата «никого не жалко», мечтавший разрушить проклятое романовское царство (вполне похоже на правду, учитывая воспитание Морозова и взгляды его матери на бесовское электричество).
Можно понять олигарха, спонсирующего какие-нибудь умеренные политические направления. Но зачем Морозову было подрывать собственное благосостояние, финансируя радикалов-большевиков?
Между тем Морозов не просто давал денег большевикам, но и сам участвовал в довольно сомнительных мероприятиях. Например, скупал революционную литературу и раздавал ее рабочим на своих мануфактурах. Одно дело, когда этим занимался двоюродный внук Морозова Николай Шмит — он был еще мальчишкой, к тому же с некоторыми проблемами с психикой. Но Морозов был степенным 40-летним олигархом https://sputnikipogrom.com/calendar/all/85137/26-may-1905/
Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384
Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!
Савва Морозов родился в 1862 году и принадлежал к клану Морозовых, которые считались одним из богатейших семейств. Морозовы были старообрядцами, поэтому в семье причудливо переплеталось архаичное прошлое и прогрессивное будущее. С одной стороны, детишки Морозовых учились в Кембридже и стажировались в Манчестере, с другой — в их роскошном особняке будто бы даже не было электричества, которое мадам Морозова-Симонова считала бесовскими штучками. История, конечно, спорная, тем не менее упоминания об этом встречаются. Еще встречаются утверждения, что Морозова-Симонова никогда не мылась из-за боязни принимать ванну и вместо этого обтиралась салфетками с одеколоном. В общем, у Морозовых царила своя атмосфера.
Савва окончил московскую гимназию, затем физико-математический факультет Московского университета, после чего учился в Кембридже. Вернувшись в Россию, возглавил перешедшую ему по наследству после смерти отца Никольскую мануфактуру, славившуюся на всю Россию.
Почти все Морозовы много отдавали на благотворительность. Савва же постепенно перешел от трат на трудящихся к тратам на политиков. Денег у него было очень много, и он их не жалел. Даже из школьных учебников хорошо известно, что Морозов давал деньги почти всем политическим направлениям, от конституционных монархистов до большевиков. Что на морозовские деньги издавалось как минимум три большевистских газеты, включая знаменитую «Искру». Что Морозов давал крупные суммы Горькому. Но при этом остаются неясными политические взгляды самого Морозова. Современники называли его в лучшем случае умеренным либералом-реформистом, а некоторые даже считали консерватором. Впрочем, Горький позднее уверял, что Морозов был стихийным революционером формата «никого не жалко», мечтавший разрушить проклятое романовское царство (вполне похоже на правду, учитывая воспитание Морозова и взгляды его матери на бесовское электричество).
Можно понять олигарха, спонсирующего какие-нибудь умеренные политические направления. Но зачем Морозову было подрывать собственное благосостояние, финансируя радикалов-большевиков?
Между тем Морозов не просто давал денег большевикам, но и сам участвовал в довольно сомнительных мероприятиях. Например, скупал революционную литературу и раздавал ее рабочим на своих мануфактурах. Одно дело, когда этим занимался двоюродный внук Морозова Николай Шмит — он был еще мальчишкой, к тому же с некоторыми проблемами с психикой. Но Морозов был степенным 40-летним олигархом https://sputnikipogrom.com/calendar/all/85137/26-may-1905/
Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384
Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!
2018 May 27

До начала войн, когда я посещал Югославию, она не показалась мне какой-то неевропейской страной — довольно бедная, это верно, но вряд ли более жестокая или отсталая, чем, скажем, Италия. Когда же вспыхнули конфликты, то хотя за их ужасами было психологически тяжело наблюдать, я не был так потрясён происходившим, как американские комментаторы. Эти знатоки болтали про «застарелую вражду», про религиозную и даже племенную рознь, про тёмные силы, которые должны были давно исчезнуть с европейского континента. Я же был молод, и для меня всё казалось не в пример проще: эти войны в основном были вызваны попытками самоопределения.
Заметная часть моего детства прошла в Соединённых Штатах, и я недоумевал, почему никто не может провести параллель с американской борьбой за независимость. Конечно, из Загреба и Любляны не раздавались патетические речи об общечеловеческих ценностях, но учитывая сопротивление этих республик власти Белграда, параллель казалась мне вполне очевидной. Иностранные же наблюдатели, наряду с искренним ужасом и отвращением к насилию, выказывали ещё и нотку морального превосходства. Я долго шёл к пониманию того, что для американцев и западноевропейцев эта борьба напоминала не об универсальных принципах, а о варварстве. Они как бы говорили: мы на Западе куда лучше всего этого. Мы через всё это давно уже прошли. Балканские войны сделали меня особенно чувствительным к самолюбованию подобного рода.
Отправимся на пару десятилетий в будущее, в март 2014 года. Эхо той же покровительственности — скорее недоумение, чем раздражение, но всё же слепое и непонимающее — можно было легко заметить в речах госсекретаря США Джона Керри, когда он комментировал вторжение России в Крым. «Нельзя же в XXI веке вести себя так, как в XIX: вторгаться в другую страну по абсолютно надуманному поводу», — жаловался Керри в интервью CBS. Оглядываясь назад, можно заключить, что растерянность госсекретаря запустила продолжающийся по сей день процесс: западные политики, активисты и журналисты медленно начинают осознавать, что их собственные умственные рамки совершенно необязательно соответствуют реальности. Но это открытие не привело к попыткам переосмысления. Всё свелось к смятению и разочарованию. «Этого не должно было случиться!» — звучало рефреном при выходе Великобритании из ЕС, росте антииммиграционных настроений по всей Европе, победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. «Что пошло не так? Разве мы не выше этого?»
Очевидный ответ: «Видимо, нет». Некоторые, вроде Дэймона Линкера, заявили, что наш высокомерный взгляд на мир зависел от своеобразной «антиполитической политики» — ненасильственно-технократического подхода к управляющим структурам, которые потеряли кредит доверия у части избирателей. Другие, включая вашего покорного слугу, полагают, что ценности современного либерализма никогда не обладали легитимизирующими, интегрирующими качествами, на которые мы надеялись — как это видно на примере «Новой» Европы, где евроинтеграция не дала большинства из обещанных преимуществ.
С другой же стороны, возможно, сама постановка вопроса не вполне верна. Возможно, мы упускаем из виду самые глубинные вещи. Возможно, всё дело не в «либерализме», как его ни толкуй и описывай, а скорее в нашей интерпретации истории. Или, точнее говоря, возможно, наша проблема заключается не столько в преимуществах и недостатках либерализма, сколько в непонимании его роли в последних событиях. У нас образовалось несколько «слепых зон», из-за которых мы не можем увидеть даже то, что смотрит прямо на нас.
Опасности демократического детерминизма: почему неоконсерваторы, либерал-интернационалисты и поборники демократии неверно понимают текущий момент (перевод Тhе Аmеriсаn Intеrеst) https://sputnikipogrom.com/translated/85143/dangers-of-determinism/
Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384
Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!
Заметная часть моего детства прошла в Соединённых Штатах, и я недоумевал, почему никто не может провести параллель с американской борьбой за независимость. Конечно, из Загреба и Любляны не раздавались патетические речи об общечеловеческих ценностях, но учитывая сопротивление этих республик власти Белграда, параллель казалась мне вполне очевидной. Иностранные же наблюдатели, наряду с искренним ужасом и отвращением к насилию, выказывали ещё и нотку морального превосходства. Я долго шёл к пониманию того, что для американцев и западноевропейцев эта борьба напоминала не об универсальных принципах, а о варварстве. Они как бы говорили: мы на Западе куда лучше всего этого. Мы через всё это давно уже прошли. Балканские войны сделали меня особенно чувствительным к самолюбованию подобного рода.
Отправимся на пару десятилетий в будущее, в март 2014 года. Эхо той же покровительственности — скорее недоумение, чем раздражение, но всё же слепое и непонимающее — можно было легко заметить в речах госсекретаря США Джона Керри, когда он комментировал вторжение России в Крым. «Нельзя же в XXI веке вести себя так, как в XIX: вторгаться в другую страну по абсолютно надуманному поводу», — жаловался Керри в интервью CBS. Оглядываясь назад, можно заключить, что растерянность госсекретаря запустила продолжающийся по сей день процесс: западные политики, активисты и журналисты медленно начинают осознавать, что их собственные умственные рамки совершенно необязательно соответствуют реальности. Но это открытие не привело к попыткам переосмысления. Всё свелось к смятению и разочарованию. «Этого не должно было случиться!» — звучало рефреном при выходе Великобритании из ЕС, росте антииммиграционных настроений по всей Европе, победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. «Что пошло не так? Разве мы не выше этого?»
Очевидный ответ: «Видимо, нет». Некоторые, вроде Дэймона Линкера, заявили, что наш высокомерный взгляд на мир зависел от своеобразной «антиполитической политики» — ненасильственно-технократического подхода к управляющим структурам, которые потеряли кредит доверия у части избирателей. Другие, включая вашего покорного слугу, полагают, что ценности современного либерализма никогда не обладали легитимизирующими, интегрирующими качествами, на которые мы надеялись — как это видно на примере «Новой» Европы, где евроинтеграция не дала большинства из обещанных преимуществ.
С другой же стороны, возможно, сама постановка вопроса не вполне верна. Возможно, мы упускаем из виду самые глубинные вещи. Возможно, всё дело не в «либерализме», как его ни толкуй и описывай, а скорее в нашей интерпретации истории. Или, точнее говоря, возможно, наша проблема заключается не столько в преимуществах и недостатках либерализма, сколько в непонимании его роли в последних событиях. У нас образовалось несколько «слепых зон», из-за которых мы не можем увидеть даже то, что смотрит прямо на нас.
Опасности демократического детерминизма: почему неоконсерваторы, либерал-интернационалисты и поборники демократии неверно понимают текущий момент (перевод Тhе Аmеriсаn Intеrеst) https://sputnikipogrom.com/translated/85143/dangers-of-determinism/
Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384
Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!
2018 May 28

28 мая 1858 года был подписан Айгунский договор, в соответствии с которым Россия получила от Китая Приамурский регион. Чуть позже договор дополнили. Воспользовавшись удачным случаем, русская дипломатия без единого выстрела добилась еще и уступки китайцами Приморья.
Фактически Россия и Китай не имели четкого разграничения в спорных областях. Их отношения регулировались древним Нерчинским договором, заключенным еще в допетровскую эпоху. Причем договаривающиеся стороны имели крайне смутное представление о регионе и де-факто ничего на самом деле не разграничили.
Из-за значительной удаленности Россия долгое время была не в состоянии заняться развитием восточных территорий. Однако появление железных дорог открыло перед ней такую возможность. В 50-е годы на Дальнем Востоке была проведена серия изысканий, причем оказалось, что огромный кусок Приамурья фактически остается бесхозным, поскольку ни Россия, ни Китай его не обустраивают. Формально этот регион относился к китайским владениям, но китайцам в то время было не до его развития.
Участвовавший в экспедиции капитан первого ранга Невельской прямо по ходу исследований основал в устье Амура Николаевский пост, ныне известный как Николаевск-на-Амуре, подняв над ним русский флаг. Это грозило дипломатическим скандалом, однако император поступок офицера одобрил. Понимая, что у китайцев нет возможности обустроить регион, в России начали постепенное переселение колонистов в Приамурье.
Новый император Александр II, понимая, что международная обстановка благоприятствует (в Китае бушевало восстание тайпинов и шла Вторая Опиумная война) начал переговоры с китайцами о новом разграничении территорий. Опасавшиеся вмешательства в конфликт китайцы согласились уступить практически бесхозный Приамурский регион. Официальная граница между странами прошла по реке Амур, что и был зафиксировано в договоре, подписанном в городе Айгун. С российской стороны подпись на нем поставил генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев. Что касается Приморья, то его разграничение было отложено на потом.
Это «потом» наступило очень скоро, уже через год. В Китай прибыл специальный посланник Николай Игнатьев, который ранее успешно договорился с Бухарским ханством. В тот момент, когда русский посланник прибыл в Пекин, китайцы одержали ряд локальных побед над войсками союзников в Опиумной войне и возомнили о себе невесть что. Дескать, мы сейчас всех бледнолицых варваров построим и победим. Окрыленные успехом китайцы начали упрямиться и даже отказывались ратифицировать Айгунский договор, рассчитывая после победы над союзниками говорить уже с других позиций.
В итоге китайцы начали тянуть время, ожидая скорого разгрома противников. Игнатьев тоже понимал, что в случае победы любой из сторон вести переговоры будет гораздо сложнее, поэтому периодически разыгрывал перед китайцами доброго и злого полицейского — то обещая поддержку Китаю, то угрожая военным вмешательством в конфликт https://sputnikipogrom.com/calendar/ru/85167/28-may-1858/
Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384
Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!
Фактически Россия и Китай не имели четкого разграничения в спорных областях. Их отношения регулировались древним Нерчинским договором, заключенным еще в допетровскую эпоху. Причем договаривающиеся стороны имели крайне смутное представление о регионе и де-факто ничего на самом деле не разграничили.
Из-за значительной удаленности Россия долгое время была не в состоянии заняться развитием восточных территорий. Однако появление железных дорог открыло перед ней такую возможность. В 50-е годы на Дальнем Востоке была проведена серия изысканий, причем оказалось, что огромный кусок Приамурья фактически остается бесхозным, поскольку ни Россия, ни Китай его не обустраивают. Формально этот регион относился к китайским владениям, но китайцам в то время было не до его развития.
Участвовавший в экспедиции капитан первого ранга Невельской прямо по ходу исследований основал в устье Амура Николаевский пост, ныне известный как Николаевск-на-Амуре, подняв над ним русский флаг. Это грозило дипломатическим скандалом, однако император поступок офицера одобрил. Понимая, что у китайцев нет возможности обустроить регион, в России начали постепенное переселение колонистов в Приамурье.
Новый император Александр II, понимая, что международная обстановка благоприятствует (в Китае бушевало восстание тайпинов и шла Вторая Опиумная война) начал переговоры с китайцами о новом разграничении территорий. Опасавшиеся вмешательства в конфликт китайцы согласились уступить практически бесхозный Приамурский регион. Официальная граница между странами прошла по реке Амур, что и был зафиксировано в договоре, подписанном в городе Айгун. С российской стороны подпись на нем поставил генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев. Что касается Приморья, то его разграничение было отложено на потом.
Это «потом» наступило очень скоро, уже через год. В Китай прибыл специальный посланник Николай Игнатьев, который ранее успешно договорился с Бухарским ханством. В тот момент, когда русский посланник прибыл в Пекин, китайцы одержали ряд локальных побед над войсками союзников в Опиумной войне и возомнили о себе невесть что. Дескать, мы сейчас всех бледнолицых варваров построим и победим. Окрыленные успехом китайцы начали упрямиться и даже отказывались ратифицировать Айгунский договор, рассчитывая после победы над союзниками говорить уже с других позиций.
В итоге китайцы начали тянуть время, ожидая скорого разгрома противников. Игнатьев тоже понимал, что в случае победы любой из сторон вести переговоры будет гораздо сложнее, поэтому периодически разыгрывал перед китайцами доброго и злого полицейского — то обещая поддержку Китаю, то угрожая военным вмешательством в конфликт https://sputnikipogrom.com/calendar/ru/85167/28-may-1858/
Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384
Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!

События, происходящие последние несколько лет в Сирии, Ираке, Египте и Ливии, позволяют сделать один важный вывод: арабский национализм умер. Может, он когда-нибудь и даст о себе знать, но пока что каких-либо признаков его возрождения не наблюдается. На то есть причины: национализм всегда апеллирует к «золотому веку» прошлого, но у арабов не только сам «золотой век», но и практически вся история связана с исламом — религией, строго отрицающей любой национализм. Впрочем, попытки утвердиться в качестве сильной национальной общности у арабов были, и история иракского «Золотого квадрата» — из их числа.
Знали ли вы, что Ирак был союзником стран Оси во Второй мировой войне, и его войска яростно сражались с британской армией? Нет? Так давайте уделим этой странице истории пару минут.
Начнем с самого начала — возникновения государства Ирак.
10 августа 1920 года был заключен Севрский договор — один из столпов Версальской системы. По арабскому национальному самосознанию был нанесен серьезный удар — договоренности о разделе бывших арабских владений Османской империи арабскими националистами были расценены как предательство. Ирак стал мандатной территорией класса «А» (мандат «Месопотамия») — то есть предполагалось, что страна будет иметь высокую степень самоуправления с последующим обретением полного суверенитета. В августе 1921 года англичане решили всё-таки выполнить хотя бы частично свои обещания, данные лидерам арабского восстания в годы Первой мировой войны. Было провозглашено Королевство Ирак, а его трон достался Фейсалу I — тому самому, что был знаком с легендарным Лоуренсом Аравийским, брал Медину и очистил Сирию от турецких частей. Ирак стал для него утешительным подарком после того, как в 1920 году Фейсал провозгласил королевство Хашимитов на территории Сирии, Ливана и Палестины. Французские войска быстро дали понять зарвавшемуся арабу, кто хозяин на Ближнем Востоке. Учитывая авторитет Фейсала среди арабов, англичане предпочли не повторять шаги французов, а постепенно готовить Ирак к роли полунезависимого, экономически подконтрольного Соединённому Королевству государственного образования. Сам Фейсал был не против — он давно сотрудничал с англичанами и понимал важность их поддержки в мире, полном крупных опасных колониальных хищников.
В 1922 году был подписан англо-иракский договор, закрепивший подчиненное по отношению к Лондону положение Багдада. Власти Ирака не имели права принимать на службу и привлекать в качестве советников представителей иных держав, кроме Великобритании, англичане в ответ обещали содействовать скорейшему принятию Ирака в Лигу Наций.
Политика Фейсала I, постоянно советовавшегося с верховным комиссаром Великобритании Перси Коксом, вызывала отторжение националистически настроенной интеллигенции и офицерства. К этому следует прибавить оппозицию шиитских шейхов и курдских племен, активно науськиваемых Турцией. Самих турок в Ираке на тот момент было лишь 8% от населения, но курды составляли большинство на севере страны, например, в Мосуле (58% населения). Казалось бы, власти можно опереться на арабов, но те были разделены конфессионально. Всего по стране шииты и сунниты были представлены в соотношении 5:4, на остальные религиозные меньшинства приходилось меньше 10%. Шейхи как суннитов, так и шиитов, вели себя довольно независимо по отношению к королю, англичане даже были вынуждены выплачивать некоторым из них за лояльность денежные субсидии. В общем, королю Ирака, постоянно оказывавшемуся под огнем критики с разных сторон, сложно позавидовать.
И тем не менее Фейсал I и премьер-министр Нури аль-Саид прикладывали немалые усилия для того, чтобы Ирак обрел хотя бы политический суверенитет https://sputnikipogrom.com/history/85174/golden-square/
Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384
Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!
Знали ли вы, что Ирак был союзником стран Оси во Второй мировой войне, и его войска яростно сражались с британской армией? Нет? Так давайте уделим этой странице истории пару минут.
Начнем с самого начала — возникновения государства Ирак.
10 августа 1920 года был заключен Севрский договор — один из столпов Версальской системы. По арабскому национальному самосознанию был нанесен серьезный удар — договоренности о разделе бывших арабских владений Османской империи арабскими националистами были расценены как предательство. Ирак стал мандатной территорией класса «А» (мандат «Месопотамия») — то есть предполагалось, что страна будет иметь высокую степень самоуправления с последующим обретением полного суверенитета. В августе 1921 года англичане решили всё-таки выполнить хотя бы частично свои обещания, данные лидерам арабского восстания в годы Первой мировой войны. Было провозглашено Королевство Ирак, а его трон достался Фейсалу I — тому самому, что был знаком с легендарным Лоуренсом Аравийским, брал Медину и очистил Сирию от турецких частей. Ирак стал для него утешительным подарком после того, как в 1920 году Фейсал провозгласил королевство Хашимитов на территории Сирии, Ливана и Палестины. Французские войска быстро дали понять зарвавшемуся арабу, кто хозяин на Ближнем Востоке. Учитывая авторитет Фейсала среди арабов, англичане предпочли не повторять шаги французов, а постепенно готовить Ирак к роли полунезависимого, экономически подконтрольного Соединённому Королевству государственного образования. Сам Фейсал был не против — он давно сотрудничал с англичанами и понимал важность их поддержки в мире, полном крупных опасных колониальных хищников.
В 1922 году был подписан англо-иракский договор, закрепивший подчиненное по отношению к Лондону положение Багдада. Власти Ирака не имели права принимать на службу и привлекать в качестве советников представителей иных держав, кроме Великобритании, англичане в ответ обещали содействовать скорейшему принятию Ирака в Лигу Наций.
Политика Фейсала I, постоянно советовавшегося с верховным комиссаром Великобритании Перси Коксом, вызывала отторжение националистически настроенной интеллигенции и офицерства. К этому следует прибавить оппозицию шиитских шейхов и курдских племен, активно науськиваемых Турцией. Самих турок в Ираке на тот момент было лишь 8% от населения, но курды составляли большинство на севере страны, например, в Мосуле (58% населения). Казалось бы, власти можно опереться на арабов, но те были разделены конфессионально. Всего по стране шииты и сунниты были представлены в соотношении 5:4, на остальные религиозные меньшинства приходилось меньше 10%. Шейхи как суннитов, так и шиитов, вели себя довольно независимо по отношению к королю, англичане даже были вынуждены выплачивать некоторым из них за лояльность денежные субсидии. В общем, королю Ирака, постоянно оказывавшемуся под огнем критики с разных сторон, сложно позавидовать.
И тем не менее Фейсал I и премьер-министр Нури аль-Саид прикладывали немалые усилия для того, чтобы Ирак обрел хотя бы политический суверенитет https://sputnikipogrom.com/history/85174/golden-square/
Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384
Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!
2018 May 29

В этом экономическом дайджесте «Спутника и Погрома» («пир во время чумы» edition):
— Петербургский экономический форум: тигр, который готовится разбить себе голову в прыжке.
— ОПЕК+ задумывается о смягчении сделки: со сланцевиками придется искать компромисс.
— Аналитики против политики: о скандальном докладе Sberbank CIB и его последствиях.
ПИР
«У меня сейчас складывается впечатление, что правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку»
— Алексей Кудрин, новоиспеченный глава Счетной палаты.
Алексей Леонидович Кудрин произнес свою фразу на Петербургском международном экономическом форуме, где с четверга по субботу собрался весь высший свет российского чиновничества и бизнеса. Настроения оказались самые радужные: компании заключали контракты и подписывали меморандумы, а новый состав правительства делился своими ближайшими планами на будущее. Нет сомнений, что ПМЭФ в этом году проходит в несколько раз ярче, чем предыдущие, и кому-то многочисленные обещания чиновников после четырех лет мрака кажутся долгожданным избавлением. Действительно, с первого взгляда можно сказать, что именно нынешние заявления и станут тем самым планом развития, который наконец-то все исправит. Однако если посмотреть чуть ближе и внимательнее, оказывается, что никакой единой позиции в правительстве до сих пор не сформировано. Более того, разные органы власти, как будто сговорившись, блестяще изображают известную басню Крылова. Разве что к ним добавился ещё и некий тигр — кто из фантастической четверки ниже больше подойдет на роль тигра, читатели могут решить сами.
Мистер Министр Финансов: позиция Силуанова, «золотое правило бюджета». Для Антона Силуанова майского указа Путина как будто не существовало — министр финансов на ПМЭФ продолжает гнуть свою линию по всем фронтам. В эти три дня он оказался главной действующей фигурой, задавшей тон всем комнатам острым аспектам — бюджету, его финансированию, экономическим целям и приоритетам.
Во-первых, Антон Силуанов анонсировал реструктуризацию расходов бюджета, также известную как «бюджетный маневр». Однако, в отличие от кудринской версии, которая понималась под этим термином всё прежнее время, министр финансов выставил для себя другие приоритеты: дополнительные расходы пойдут не на образование и здравоохранение, а на развитие инфраструктуры (создадут ещё один специальный фонд), цифровую экономику и поддержку экспорта.
Во-вторых, что касается налоговых изменений — будет только перенастройка, и затем — стабильность в течение всего президентского срока. Вслед за обещанием Дмитрия Медведева депутатам не поднимать ставку НДФЛ, Силуанов также отрицательно высказался по поводу обсуждаемого в прошлом году налога с продаж. Кроме того, министр финансов выступил против пересмотра льготной ставки НДС на социально-значимые товары.
Консервативная позиция у Силуанова осталась и по бюджетному правилу. Единственный источник дохода, который Антон Германович намерен частично вскрыть — это заемное финансирование. Наращивание государственного долга по Силуанову станет незаметным в процентном соотношении из-за экономической отдачи от инвестиций: таким образом, удастся соблюсти «золотое правило бюджета» — не наращивать долг на покрытие текущих нужд.
— Петербургский экономический форум: тигр, который готовится разбить себе голову в прыжке.
— ОПЕК+ задумывается о смягчении сделки: со сланцевиками придется искать компромисс.
— Аналитики против политики: о скандальном докладе Sberbank CIB и его последствиях.
ПИР
«У меня сейчас складывается впечатление, что правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку»
— Алексей Кудрин, новоиспеченный глава Счетной палаты.
Алексей Леонидович Кудрин произнес свою фразу на Петербургском международном экономическом форуме, где с четверга по субботу собрался весь высший свет российского чиновничества и бизнеса. Настроения оказались самые радужные: компании заключали контракты и подписывали меморандумы, а новый состав правительства делился своими ближайшими планами на будущее. Нет сомнений, что ПМЭФ в этом году проходит в несколько раз ярче, чем предыдущие, и кому-то многочисленные обещания чиновников после четырех лет мрака кажутся долгожданным избавлением. Действительно, с первого взгляда можно сказать, что именно нынешние заявления и станут тем самым планом развития, который наконец-то все исправит. Однако если посмотреть чуть ближе и внимательнее, оказывается, что никакой единой позиции в правительстве до сих пор не сформировано. Более того, разные органы власти, как будто сговорившись, блестяще изображают известную басню Крылова. Разве что к ним добавился ещё и некий тигр — кто из фантастической четверки ниже больше подойдет на роль тигра, читатели могут решить сами.
Мистер Министр Финансов: позиция Силуанова, «золотое правило бюджета». Для Антона Силуанова майского указа Путина как будто не существовало — министр финансов на ПМЭФ продолжает гнуть свою линию по всем фронтам. В эти три дня он оказался главной действующей фигурой, задавшей тон всем комнатам острым аспектам — бюджету, его финансированию, экономическим целям и приоритетам.
Во-первых, Антон Силуанов анонсировал реструктуризацию расходов бюджета, также известную как «бюджетный маневр». Однако, в отличие от кудринской версии, которая понималась под этим термином всё прежнее время, министр финансов выставил для себя другие приоритеты: дополнительные расходы пойдут не на образование и здравоохранение, а на развитие инфраструктуры (создадут ещё один специальный фонд), цифровую экономику и поддержку экспорта.
Во-вторых, что касается налоговых изменений — будет только перенастройка, и затем — стабильность в течение всего президентского срока. Вслед за обещанием Дмитрия Медведева депутатам не поднимать ставку НДФЛ, Силуанов также отрицательно высказался по поводу обсуждаемого в прошлом году налога с продаж. Кроме того, министр финансов выступил против пересмотра льготной ставки НДС на социально-значимые товары.
Консервативная позиция у Силуанова осталась и по бюджетному правилу. Единственный источник дохода, который Антон Германович намерен частично вскрыть — это заемное финансирование. Наращивание государственного долга по Силуанову станет незаметным в процентном соотношении из-за экономической отдачи от инвестиций: таким образом, удастся соблюсти «золотое правило бюджета» — не наращивать долг на покрытие текущих нужд.

Мистер Глава Счётной палаты: позиция Кудрина, «ничего не выполнено». Алексей Леонидович в этой четверке, кажется, единственный человек, всерьез намеренный выполнять майский указ. Заявив, что прошлые указы фактически не выполнены по всем ключевым показателям, Кудрин предлагает свою программу реформ, кардинально отличающуюся от перечисленной выше. Бывший начальник нынешнего министра сходится с ним только в одном — нужна мощная фискальная стимуляция экономики страны. Однако если по Силуанову объектами дополнительного финансирования станут инфраструктура и экспорт, то по Кудрину главные задачи страны — это здравоохранение и образование. Явно увлеченный модными ИРЧП и продолжительностью жизни, Алексей Леонидович настаивает на необходимости финансировать эти отрасли и за счёт смягчения бюджетного правила (читай — залить нефтяными деньгами), и за счёт наращивания государственного долга. «Сегодня нужно относиться к вложениям в человеческий капитал как к инвестициям. Если мы будем делить инвестиции и образование, скажем, что это социальная поддержка, то это уже не совсем верно», — обозначил свою нетрадиционную позицию глава Счётной палаты.
Миссис Председатель Центрального банка: позиция Набиуллиной, «может привести к перегреву». Если спор Алексея Леонидовича и Антона Германовича ещё можно назвать конструктивным, то глава Банка России пресекает их построения на корню: по Набиуллиной, «любой фискальный стимул может привести к перегреву российской экономики» (надо иметь особый талант говорить о перегреве экономики в условиях трехлетней рецессии промышленности и трехлетнего падения РРД). При этом если всё же начинать, то все три источника доходов — нефтяные деньги, повышение налогов, внешние заимствования, — Эльвира Сахипзадовна предлагает использовать сразу, но умеренно. Главное не допустить негативных последствий — кроме уже названного перегрева экономики Набиуллина упомянула вытеснение частных инвестиций государственными заимствованиями, доверие инвесторов и инфляционный эффект от повышения налогов. Кажется, больше всего глава ЦБ желает, чтобы в экономике России не происходило вообще ничего: ни указов, ни роста, ни смены процентных ставок.
Мистер Глава бюджетного комитета Госдумы: позиция Макарова, «второй закон термодинамики». «Главное мы сделали. Мы передали Министерству экономического развития Росстат. Все будет нормально, коллеги», — такими эмоциональными словами закончил своё выступление на форуме Андрей Макаров. Глава бюджетного комитета Госдумы, рядом с которым так кстати сидел Анатолий Чубайс, произвел своего рода фурор, назвав всю деятельность правительства вопиюще неэффективной и безответственной. Его позицию в целом можно обозначить его же словами: «Добавив в любую неэффективную систему денег, мы добьемся только одного — возможности более эффективно их воровать». Критике Макарова, в общем-то, подверглись все области деятельности правительства: система здравоохранения, налоговая, бюджетная и образовательная системы были упомянуты прямым текстом, а всё остальное, как говорится, подразумевалось в других частях его выступления. И хотя члены Государственной думы редко бывают компетентнее федеральных чиновников, во многом с господином Макаровым сложно спорить, тем более что человек заканчивает свои слова так: «Прошу не хлопать, в группе я получу куда больше, чем один».
Куда пойдет в итоге воз российской экономики с такими разными позициями его кучеров — большой вопрос https://sputnikipogrom.com/economicsreport/85160/economics-report-175/
Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384
Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!
Миссис Председатель Центрального банка: позиция Набиуллиной, «может привести к перегреву». Если спор Алексея Леонидовича и Антона Германовича ещё можно назвать конструктивным, то глава Банка России пресекает их построения на корню: по Набиуллиной, «любой фискальный стимул может привести к перегреву российской экономики» (надо иметь особый талант говорить о перегреве экономики в условиях трехлетней рецессии промышленности и трехлетнего падения РРД). При этом если всё же начинать, то все три источника доходов — нефтяные деньги, повышение налогов, внешние заимствования, — Эльвира Сахипзадовна предлагает использовать сразу, но умеренно. Главное не допустить негативных последствий — кроме уже названного перегрева экономики Набиуллина упомянула вытеснение частных инвестиций государственными заимствованиями, доверие инвесторов и инфляционный эффект от повышения налогов. Кажется, больше всего глава ЦБ желает, чтобы в экономике России не происходило вообще ничего: ни указов, ни роста, ни смены процентных ставок.
Мистер Глава бюджетного комитета Госдумы: позиция Макарова, «второй закон термодинамики». «Главное мы сделали. Мы передали Министерству экономического развития Росстат. Все будет нормально, коллеги», — такими эмоциональными словами закончил своё выступление на форуме Андрей Макаров. Глава бюджетного комитета Госдумы, рядом с которым так кстати сидел Анатолий Чубайс, произвел своего рода фурор, назвав всю деятельность правительства вопиюще неэффективной и безответственной. Его позицию в целом можно обозначить его же словами: «Добавив в любую неэффективную систему денег, мы добьемся только одного — возможности более эффективно их воровать». Критике Макарова, в общем-то, подверглись все области деятельности правительства: система здравоохранения, налоговая, бюджетная и образовательная системы были упомянуты прямым текстом, а всё остальное, как говорится, подразумевалось в других частях его выступления. И хотя члены Государственной думы редко бывают компетентнее федеральных чиновников, во многом с господином Макаровым сложно спорить, тем более что человек заканчивает свои слова так: «Прошу не хлопать, в группе я получу куда больше, чем один».
Куда пойдет в итоге воз российской экономики с такими разными позициями его кучеров — большой вопрос https://sputnikipogrom.com/economicsreport/85160/economics-report-175/
Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384
Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!

29 мая 1867 года в Российской Империи появились мировые судьи, которые избирались голосованием на трехлетний срок.
Внедрение мировых судей стало важным элементом затеянной Александром II судебной реформы. Выборность и полная независимость новых судей от администрации должны были повысить доверие к суду, что в конечном счете и произошло.
Мировыми судьями могли стать все желающие, которые соответствовали необходимым требованиям. Во-первых, они должны были иметь образование не ниже полного среднего. Во-вторых, соответствовать определенному имущественному цензу (материальная обеспеченность была необходима для того, чтобы у судей не было стимула брать взятки), который был различен для крупных городов, просто городов и сельской местности. Впрочем, при определенных условиях на несоответствие имущественному цензу могли закрыть глаза.
Выборы судей проходили не совсем так, как современные, когда каждый гражданин приходит на избирательный участок и голосует. Каждый желающий поучаствовать в выборах обращался в уездную земскую управу для регистрации его кандидатуры. Списки кандидатов на должность мирового судьи публиковались в местных газетах незадолго до выборов.
Списки кандидатов отправлялись местному губернатору для ознакомления. Поскольку суд был независимым, губернатор не имел права вето и мог только выразить особое губернаторское отношение, имеющее только рекомендательный характер.
Затем уездное земское собрание (еще один выборный орган, в котором присутствовали гласные от всех слоев местного общества) простым большинством голосов избирал мирового судью. После этого победившего кандидата вносили в списки мировых судей уезда, списки публиковались в местных газетах. В столичных городах выборы судей проводились городскими думами.
Полномочия судьи длились три года. Однако кандидаты не имели ограничений по количеству сроков и могли участвовать в выборах каждые три года. Судья не мог быть никем уволен со своего поста вплоть до истечения полномочий. Единственное исключение составляло его преследование по суду за совершение тяжких уголовных преступлений https://sputnikipogrom.com/calendar/ru/85189/29-may-1867/
Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384
Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!
Внедрение мировых судей стало важным элементом затеянной Александром II судебной реформы. Выборность и полная независимость новых судей от администрации должны были повысить доверие к суду, что в конечном счете и произошло.
Мировыми судьями могли стать все желающие, которые соответствовали необходимым требованиям. Во-первых, они должны были иметь образование не ниже полного среднего. Во-вторых, соответствовать определенному имущественному цензу (материальная обеспеченность была необходима для того, чтобы у судей не было стимула брать взятки), который был различен для крупных городов, просто городов и сельской местности. Впрочем, при определенных условиях на несоответствие имущественному цензу могли закрыть глаза.
Выборы судей проходили не совсем так, как современные, когда каждый гражданин приходит на избирательный участок и голосует. Каждый желающий поучаствовать в выборах обращался в уездную земскую управу для регистрации его кандидатуры. Списки кандидатов на должность мирового судьи публиковались в местных газетах незадолго до выборов.
Списки кандидатов отправлялись местному губернатору для ознакомления. Поскольку суд был независимым, губернатор не имел права вето и мог только выразить особое губернаторское отношение, имеющее только рекомендательный характер.
Затем уездное земское собрание (еще один выборный орган, в котором присутствовали гласные от всех слоев местного общества) простым большинством голосов избирал мирового судью. После этого победившего кандидата вносили в списки мировых судей уезда, списки публиковались в местных газетах. В столичных городах выборы судей проводились городскими думами.
Полномочия судьи длились три года. Однако кандидаты не имели ограничений по количеству сроков и могли участвовать в выборах каждые три года. Судья не мог быть никем уволен со своего поста вплоть до истечения полномочий. Единственное исключение составляло его преследование по суду за совершение тяжких уголовных преступлений https://sputnikipogrom.com/calendar/ru/85189/29-may-1867/
Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384
Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!

С философской, интеллектуальной и любой другой точки зрения человеческое общество не готово к появлению искусственного интеллекта.
Перевод статьи патриарха американской политики 95-летнего Генри Киссинджера.
Три года назад, на конференции по трансатлантическим вопросам, в повестке дня всплыла тема искусственного интеллекта. Я собирался её пропустить, поскольку она лежала за пределами моих обычных интересов, но начало презентации заставило меня задержаться.
Докладчик описывал поведение компьютерных программ, которые вскоре смогли бы бросить вызов международным чемпионам по игре в го. Я был изумлён, что компьютер способен хорошо освоить эту игру, которая считается более сложной, чем шахматы. В го у каждого игрока есть 180 или 181 камень (в зависимости от выбранного цвета), которые надо поочерёдно размещать на исходно чистой доске; победа присуждается той стороне, которая благодаря более разумным стратегическим решениям обездвижит камни соперника и сможет более эффективно контролировать пространство доски.
Выступавший настаивал на том, что такие способности запрограммировать невозможно. По его словам, машина училась играть в го на основе тренировки практикой. Учитывая, что правила игры довольно просты, компьютер мог сыграть бесчисленное количество партий против самого себя, изучая ошибки и подстраивая алгоритмы. В конечном итоге он превзошёл бы умение своих наставников-людей. Это оказалось правдой: через несколько месяцев после презентации компьютерная программа под названием AlphaGo нанесла сокрушительное поражение ряду лучших в мире игроков.
Пока я слушал дифирамбы техническому прогрессу, моё чутьё историка и отчасти государственного деятеля заставило меня призадуматься. Как повлияют на историю самообучающиеся машины — машины, которые постигают знания согласно собственным внутренним процессам и которые применяют эти знания такими способами, понять которые люди, быть может, окажутся неспособны? Научатся ли машины общаться друг с другом? Как они будут делать выбор среди множества возможностей? Что если после этого история человечества воспроизведёт сценарий с инками, для которых испанская культура оказалась непостижимой и внушающей благоговение? Оказались ли мы на краю новой ступени человеческой истории?
Сознавая свой недостаток технических знаний, я организовал ряд неформальных дебатов по данной теме при участии знакомых, сведущих в технических и гуманитарных вопросах. Эти дебаты заставили меня встревожиться ещё больше.
До настоящего момента изобретением, которое, пожалуй, сильнее прочих повлияло на ход новой истории, был печатный пресс (XV век). Он позволил эмпирическому знанию постепенно вытеснить церковные доктрины, и эпоха разума пришла на смену эпохе религии. Личностное постижение и научное знание сменили веру в качестве основного критерия человеческого сознания. Информация начала скапливаться и систематизироваться в библиотеках. Век разума породил идеи, из которых прямо проистекает весь современный порядок вещей.
Но теперь этот порядок затягивает в водоворот новая, ещё более фундаментальная техническая революция, чьи последствия мы плохо понимаем, и которая может привести к созданию мира машин, информации и алгоритмов, свободных от любых этических и философских норм.
Эпоха интернета, в которую мы уже вступили, породила определённые вопросы и проблемы, которые ИИ многократно усугубит. Просвещение стремилось подчинить традиционные догмы свободному аналитическому разуму человека. Цель интернета — утвердить знание накоплением и манипуляциями со всё более обширными наборами данных. Человеческое познание теряет личностный характер. Индивидуумы превращаются в данные, и данные начинают править миром.
Перевод статьи патриарха американской политики 95-летнего Генри Киссинджера.
Три года назад, на конференции по трансатлантическим вопросам, в повестке дня всплыла тема искусственного интеллекта. Я собирался её пропустить, поскольку она лежала за пределами моих обычных интересов, но начало презентации заставило меня задержаться.
Докладчик описывал поведение компьютерных программ, которые вскоре смогли бы бросить вызов международным чемпионам по игре в го. Я был изумлён, что компьютер способен хорошо освоить эту игру, которая считается более сложной, чем шахматы. В го у каждого игрока есть 180 или 181 камень (в зависимости от выбранного цвета), которые надо поочерёдно размещать на исходно чистой доске; победа присуждается той стороне, которая благодаря более разумным стратегическим решениям обездвижит камни соперника и сможет более эффективно контролировать пространство доски.
Выступавший настаивал на том, что такие способности запрограммировать невозможно. По его словам, машина училась играть в го на основе тренировки практикой. Учитывая, что правила игры довольно просты, компьютер мог сыграть бесчисленное количество партий против самого себя, изучая ошибки и подстраивая алгоритмы. В конечном итоге он превзошёл бы умение своих наставников-людей. Это оказалось правдой: через несколько месяцев после презентации компьютерная программа под названием AlphaGo нанесла сокрушительное поражение ряду лучших в мире игроков.
Пока я слушал дифирамбы техническому прогрессу, моё чутьё историка и отчасти государственного деятеля заставило меня призадуматься. Как повлияют на историю самообучающиеся машины — машины, которые постигают знания согласно собственным внутренним процессам и которые применяют эти знания такими способами, понять которые люди, быть может, окажутся неспособны? Научатся ли машины общаться друг с другом? Как они будут делать выбор среди множества возможностей? Что если после этого история человечества воспроизведёт сценарий с инками, для которых испанская культура оказалась непостижимой и внушающей благоговение? Оказались ли мы на краю новой ступени человеческой истории?
Сознавая свой недостаток технических знаний, я организовал ряд неформальных дебатов по данной теме при участии знакомых, сведущих в технических и гуманитарных вопросах. Эти дебаты заставили меня встревожиться ещё больше.
До настоящего момента изобретением, которое, пожалуй, сильнее прочих повлияло на ход новой истории, был печатный пресс (XV век). Он позволил эмпирическому знанию постепенно вытеснить церковные доктрины, и эпоха разума пришла на смену эпохе религии. Личностное постижение и научное знание сменили веру в качестве основного критерия человеческого сознания. Информация начала скапливаться и систематизироваться в библиотеках. Век разума породил идеи, из которых прямо проистекает весь современный порядок вещей.
Но теперь этот порядок затягивает в водоворот новая, ещё более фундаментальная техническая революция, чьи последствия мы плохо понимаем, и которая может привести к созданию мира машин, информации и алгоритмов, свободных от любых этических и философских норм.
Эпоха интернета, в которую мы уже вступили, породила определённые вопросы и проблемы, которые ИИ многократно усугубит. Просвещение стремилось подчинить традиционные догмы свободному аналитическому разуму человека. Цель интернета — утвердить знание накоплением и манипуляциями со всё более обширными наборами данных. Человеческое познание теряет личностный характер. Индивидуумы превращаются в данные, и данные начинают править миром.

Интернет-пользователи делают акцент на получении и обработке информации, а не на осмыслении и анализе в контексте. Редко затрагиваются вопросы философии или истории; как правило, предпочтение отдаётся информации, затрагивающей непосредственные практические нужды. При этом поисковые алгоритмы обретают способность предсказывать предпочтения отдельных пользователей; алгоритмы подбирают результаты индивидуально и передают их третьим лицам в политических и коммерческих целях. Истина становится относительным понятием. Информация грозит захлестнуть мудрость.
Бомбардируемые бесчисленными мнениями других людей в соцсетях пользователи всё меньше внимания обращают на самоанализ; фактически многие технофилы используют интернет, чтобы убежать от одиночества, которого так опасаются. Всё это ослабляет силу духа, необходимую для рождения и закалки убеждений, свойственных тем, кто странствует в одиночку — творческим умам.
Особенно заметно влияние интернет-технологий на политику. Возможность обращаться к микрогруппам уже сломала весь предыдущий политический дискурс, поскольку это позволило сосредотачиваться на отдельных целях, и у политических лидеров, попавших под этот каток, не остаётся времени обдумывать и анализировать ситуацию в целом — их поле зрения постоянно сужается.
Акцент цифровых технологий на скорости подавляет анализ; они дают радикалам преимущество над мыслителями; ценности формируются через консенсус микрогрупп, а не всестороннее осмысление. Несмотря на все преимущества, эти технологии могут восстать против самих себя, когда их недостатки перевесят преимущества.
Интернет и всевозрастающие вычислительные мощности значительно облегчили накопление и анализ больших массивов информации, но одновременно они поставили перед человечеством нетривиальные вопросы. Важнейшим следует считать проект, направленный на создание искусственного интеллекта, — эта технология призвана выдвигать и решать сложные абстрактные проблемы способами, которые, казалось, повторяют логику человеческого разума https://sputnikipogrom.com/translated/85197/enlightenment-ends/
Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384
Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!
Бомбардируемые бесчисленными мнениями других людей в соцсетях пользователи всё меньше внимания обращают на самоанализ; фактически многие технофилы используют интернет, чтобы убежать от одиночества, которого так опасаются. Всё это ослабляет силу духа, необходимую для рождения и закалки убеждений, свойственных тем, кто странствует в одиночку — творческим умам.
Особенно заметно влияние интернет-технологий на политику. Возможность обращаться к микрогруппам уже сломала весь предыдущий политический дискурс, поскольку это позволило сосредотачиваться на отдельных целях, и у политических лидеров, попавших под этот каток, не остаётся времени обдумывать и анализировать ситуацию в целом — их поле зрения постоянно сужается.
Акцент цифровых технологий на скорости подавляет анализ; они дают радикалам преимущество над мыслителями; ценности формируются через консенсус микрогрупп, а не всестороннее осмысление. Несмотря на все преимущества, эти технологии могут восстать против самих себя, когда их недостатки перевесят преимущества.
Интернет и всевозрастающие вычислительные мощности значительно облегчили накопление и анализ больших массивов информации, но одновременно они поставили перед человечеством нетривиальные вопросы. Важнейшим следует считать проект, направленный на создание искусственного интеллекта, — эта технология призвана выдвигать и решать сложные абстрактные проблемы способами, которые, казалось, повторяют логику человеческого разума https://sputnikipogrom.com/translated/85197/enlightenment-ends/
Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384
Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!
2018 May 30

Ровно сто лет назад, 30 мая 1918 года, умер Георгий Плеханов, человек, без которого не было бы ни Ленина, ни русского марксизма в том виде, который в итоге получился. Плеханов стал отцом русского марксизма и политическим отцом Ленина, о чем большевики, несмотря на дальнейшую ссору с Плехановым, никогда не забывали.
Плеханов родился в семье отставного офицера в тамбовской губернии в 1856 году. Учился в кадетском корпусе (и весьма хорошо), затем в юнкерском училище. Однако офицером так и не стал. Во время учебы в Петербургском горном университете увлекся революционными идеями и забросил учебу.
Плеханов примкнул к революционной народнической организации «Земля и воля», политической программой которой было разделение России на части (т. н. право наций на самоопределение) и устроение жизни в оставшихся регионах на крестьянских началах. То есть полный передел земли в равных долях между крестьянами и внедрение общинного самоуправления в общегосударственном масштабе. В тот период Плеханов работал под русского крестьянина, носил подпоясанную национальную рубаху (по мнению интеллигентов, так должен был выглядеть настоящий мужик а-ля рюсс) и высокие сапоги.
В конце 70-х годов в организации наметился раскол на две группы. Желябовская группа настаивала на немедленном и всеобщем терроре для дезорганизации государственного аппарата. Плехановская выступала за продолжение народнической агитации и сеяние в крестьянских слоях революционной искры.
После раскола Плеханов вышел из организации, создав «Черный передел», остальные ушли в «Народную волю» для террористической деятельности. Впрочем, организация просуществовала недолго, и вскоре Плеханов уехал в Швейцарию. Там он отрекся от народничества и увлекся модным марксизмом, начав компилировать и переводить на русский труды Маркса и Энгельса https://sputnikipogrom.com/calendar/all/85214/30-may-1918/
Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384
Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!
Плеханов родился в семье отставного офицера в тамбовской губернии в 1856 году. Учился в кадетском корпусе (и весьма хорошо), затем в юнкерском училище. Однако офицером так и не стал. Во время учебы в Петербургском горном университете увлекся революционными идеями и забросил учебу.
Плеханов примкнул к революционной народнической организации «Земля и воля», политической программой которой было разделение России на части (т. н. право наций на самоопределение) и устроение жизни в оставшихся регионах на крестьянских началах. То есть полный передел земли в равных долях между крестьянами и внедрение общинного самоуправления в общегосударственном масштабе. В тот период Плеханов работал под русского крестьянина, носил подпоясанную национальную рубаху (по мнению интеллигентов, так должен был выглядеть настоящий мужик а-ля рюсс) и высокие сапоги.
В конце 70-х годов в организации наметился раскол на две группы. Желябовская группа настаивала на немедленном и всеобщем терроре для дезорганизации государственного аппарата. Плехановская выступала за продолжение народнической агитации и сеяние в крестьянских слоях революционной искры.
После раскола Плеханов вышел из организации, создав «Черный передел», остальные ушли в «Народную волю» для террористической деятельности. Впрочем, организация просуществовала недолго, и вскоре Плеханов уехал в Швейцарию. Там он отрекся от народничества и увлекся модным марксизмом, начав компилировать и переводить на русский труды Маркса и Энгельса https://sputnikipogrom.com/calendar/all/85214/30-may-1918/
Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384
Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!

На Украине воскрес Бабченко https://www.youtube.com/watch?v=BJ9dKyvQdck