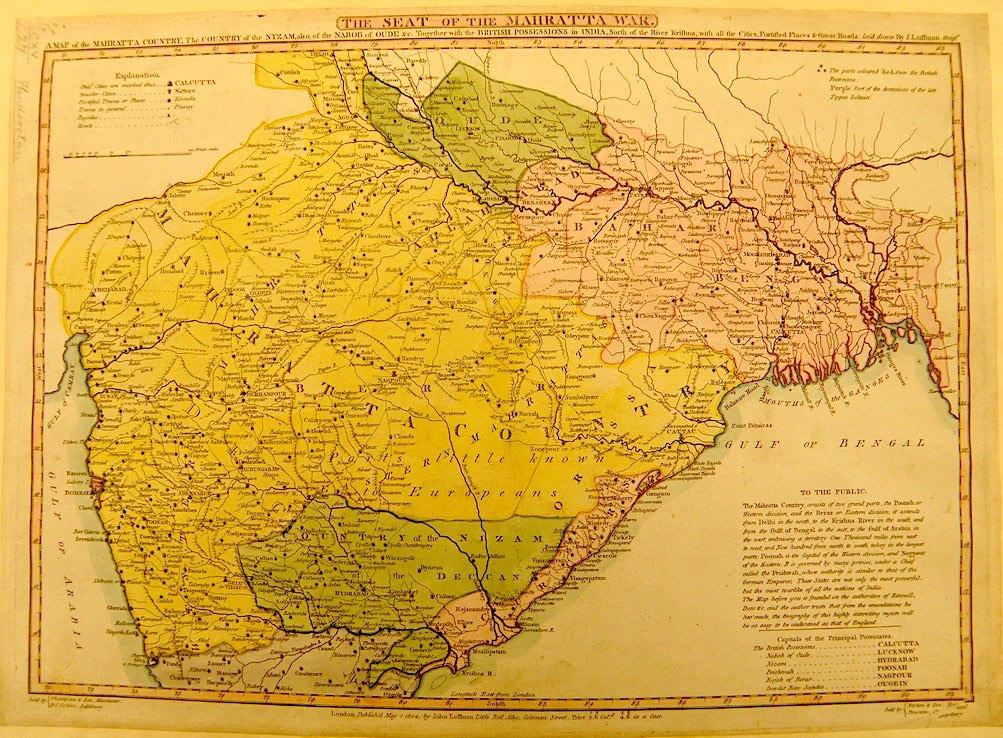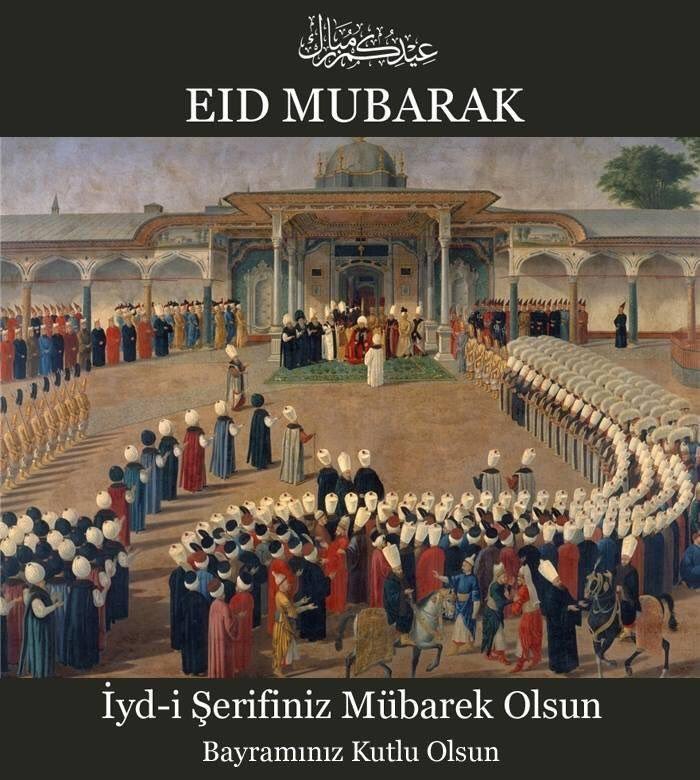Подобно тому как западная интеллектуальная традиция базируется на небольшом количестве работ, написанных в эпоху классической Греции, китайская мысль до сих пор вертится вокруг пула текстов написанных в Эпоху Весны и Осени и, в меньшей степени, Борющихся Царств. Там было много всего разного интересного - например, даосизм и моизм (оффтоп, никто доподлинно не знает, что такое моизм - большинство наших знаний об оригинальном моизме почерпнуто из конфуцианских текстов, в которых ученые обвиняли друг друга в моистском уклоне).
Как бы то ни было, на дальнейшую историю Китая больше всего повлияли два учения: конфуцианство и легизм. Не помню кто из мыслителей говорил, что каждая идея является на свет не сама по себе, а только в сочетании со своей противоположностью. Вот примерно это можно сказать о конфуцианстве и легизме, возникшем как реакция на него.
Как выглядит конфуцианская антропология? Человек, в смысле китаец, хуа (華), которого только и можно считать настоящим человеком, по природе своей добр. Добр - означает биологически запрограммирован вести себя “правильно”, в соответствии с требованиями почтительности и долга, включающих в себя абсолютное подчинение авторитету - родителей, начальства, государства.
Если верить Шу-цзин (Книге истории) - одному из основополагающих текстов конфуцианства, изначально китайцы жили без законов, руководствуясь врожденным чувством морали. И только после покорения варваров-мяо, у которых морали нет, пришлось принимать законы и вводить провинциальную систему, чтобы контролировать их выполнение. (Замечание - это прекрасное описание реального механизма распространения инструментов управления, рассчитанных на контроль колоний, на метрополию).
Легистская антропология в определенном плане противоположна конфуцианской. Человек - падла и мразь. Почему он падла? Потому что живет не в соответствии с требованиями долга, беспрекословно подчиняясь приказам высших, а руководствуясь собственными хотелками. Это недопустимо.
Короче говоря, конфуцианская теория об изначальной “добродетельности” (т.е. конформности) человека представляет с точки зрения легистов полный бред. Практические рекомендации основанные на этом бреде приводят к хаосу и анархии. Поскольку человек безнадежно испорчен, то, чтобы он повиновался его надо стращать “Если управлять людьми как добродетельными, то неизбежна смута и страна погибнет; если управлять людьми как порочными, то всегда утверждается образцовый порядок и страна достигает могущества” - как написано в “Книге правителя области Шан”.
Так что рецепт легистов заключался в том, чтобы резко усилить наказания и навести на население ужас. Если предоставить людей самим себе, то их действия “порождают беспорядок. Поэтому там, где людей сурово карают за мелкие проступки, проступки исчезают, а тяжким преступлениям просто неоткуда взяться”.
Мы видим, что при всей внешней противоположности конфуцианской и легистской антропологии, между ними есть нечто общее. А именно - представление о самом идеале человека, о том, к чему следует стремиться. Идеал этот выглядит примерно так:
“В детстве был смирным, слушался приказов, гулять ходил только в определенную сторону, пребывал в строго определенном месте, любил учиться и не шалил. В отрочестве обладал твердой волей и выполнял приказы, усердно соблюдал то, чему его учили, и не был распущен. Став совершеннолетним, любил почтительность, не имел своевольных мыслей, менял взгляды только из чувства долга, действовал только по приказу высших».
Разница состоит лишь в том, что конфуцианцы считали, что естественный человек этому идеалу в целом соответствует, а легисты - что не соответствует, и чтобы он вел себя “правильно”, т.е. целиком повиновался власть предержащим, его надо затерроризировать.
Вот собственно каркас, на котором держится китайская мысль уже больше двух тысячелетий. Именно в контексте общего конфуцианско-легистского идеала абсолютного повиновения, а также расхождений в том, насколько человек этому идеалу соответствует, я бы и воспринимал современную политику КНР в части системы “социального кредита” и всеобщей слежки.