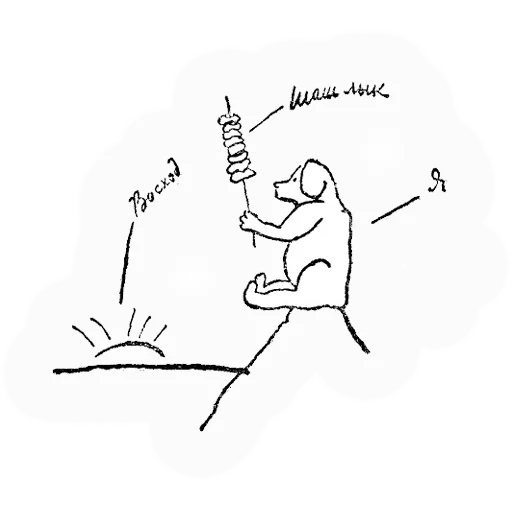Size: a a a
2016 November 08

Продюсеры «Властелина колец» задумали фильм про Толкина himself. Снимать будет Джеймс Стронг, ответственный за «Аббатство Даунтон». http://deadline.com/2016/11/james-strong-j-r-r-tolkien-middle-earth-the-lord-and-the-rings-unique-features-bob-shaye-michael-lynne-1201849947/

Самое время пересмотреть любимый выпуск ERB, где Дж. Р. Р. Толкин размазывает другого Дж. Р. Р.
https://www.youtube.com/watch?v=XAAp_luluo0
https://www.youtube.com/watch?v=XAAp_luluo0

Елена Щетинина в «Даркере» рассказывает о Шекли, которого я не знал. Оказывается, мастер написал несколько рассказов и романов в нашем любимом жанре «Игра на выживание» (см. «Бегущий человек», «Королевская битва», «Голодные игры»).
http://darkermagazine.ru/page/pif-paf-oj-oj-oj-smertelnye-igry-roberta-shekli
http://darkermagazine.ru/page/pif-paf-oj-oj-oj-smertelnye-igry-roberta-shekli

Переводчица и автор «Горького» Анастасия Завозова (которую мы очень любим) дала интервью Wonderzine (которых мы тоже любим) о самых важных для нее книгах:
«Книги для меня с детства находились в одном ряду с самыми необходимыми для жизни предметами: тогда люди стояли за маслом, за колбасой, за стиральным порошком и за книгами. У нас дома до сих пор сохранилось письмо, которое папа написал маме в роддом. После поздравлений шла важная приписка: "P. S.: В книжном выкинули Саймака. Записался в очередь". Я выучилась читать года в три и с тех пор не перестаю это делать. Знаете, у Александра Житинского есть замечательная детская книжка, называется "Хранитель планеты". Там есть персонаж — космический передатчик в виде пингвина. Он питается информацией, поэтому ему нужно всё время что-то читать, и главный герой «кормит» его словарями и энциклопедиями. Когда пингвину вдруг нечего читать и у него кончаются буквы, он ложится на бок, начинает хлопать крыльями, закатывать глаза и помирать. Так вот, я — этот пингвин».
http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/bookshelf/222143-anastasiya-zavozova
«Книги для меня с детства находились в одном ряду с самыми необходимыми для жизни предметами: тогда люди стояли за маслом, за колбасой, за стиральным порошком и за книгами. У нас дома до сих пор сохранилось письмо, которое папа написал маме в роддом. После поздравлений шла важная приписка: "P. S.: В книжном выкинули Саймака. Записался в очередь". Я выучилась читать года в три и с тех пор не перестаю это делать. Знаете, у Александра Житинского есть замечательная детская книжка, называется "Хранитель планеты". Там есть персонаж — космический передатчик в виде пингвина. Он питается информацией, поэтому ему нужно всё время что-то читать, и главный герой «кормит» его словарями и энциклопедиями. Когда пингвину вдруг нечего читать и у него кончаются буквы, он ложится на бок, начинает хлопать крыльями, закатывать глаза и помирать. Так вот, я — этот пингвин».
http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/bookshelf/222143-anastasiya-zavozova


В миннесотском оперном уже полгода идёт опера по кинговскому «Сиянию»! Весь ноябрь её можно послушать на сайте местной радиостанции (либретто прилагается).
http://bit.ly/ShiningOpera
http://bit.ly/ShiningOpera
2016 November 09

Прочитал «Автохтонов» Галиной, и не знаю, что думать. Мне скорее не понравилось, но какая же искусная работа.
http://bookninja.ru/blog/all/avtohtony/
http://bookninja.ru/blog/all/avtohtony/

Вот избран новый Президент
Соединенных Штатов
Поруган старый Президент
Соединенных Штатов
А нам-то что? — ну Президент
Ну Съединенных Штатов
А интересно все ж — Прездент
Соединенных Штатов.
—Д. А. Пригов
Соединенных Штатов
Поруган старый Президент
Соединенных Штатов
А нам-то что? — ну Президент
Ну Съединенных Штатов
А интересно все ж — Прездент
Соединенных Штатов.
—Д. А. Пригов

Ладно, расскажу, в чём ещё проблема нацпрограммы поддержки чтения. Она очень медленная. Меедленная. Меееееееееедлееееееенннннннаааааяяяяяя.
Следите за руками. Программа стартует в 2007 году. Подготовка идёт до 2010, с тех пор (и по сей день) программа реализуется, потом в каком-то там году собираются новые данные и оценивается эффективность.
Проблема в том, что эффективность оценивается по критериям, разработанным в том же 2006 году. То есть программа рассчитана на работу с количественными показателями. А ситуация изменяется качественно, причём каждый год. С начала программы разросся Вконтакте, появились айпэды, заработал букмейт, люди начали массово читать с мобильников. Случился взрыв YA-литературы, начало выходить море комиксов, появлялись и исчезали книжные фестивали…
Короче, книжный мир меняется постоянно. Количество книг, взятых в библиотеке в 2007 году, нельзя сравнивать с аналогичным показателем в 2017: они по разному характеризуют читающих людей. Если авторы хотят, чтобы программа работала, пятилетки и планы не годятся. Нужно ежегодно пересматривать критерии, корректировать задачи в соответствии с меняющимся миром, и держать нос по ветру.
Когда какие-то «активисты» в этом году требовали запретить сорокинскую «Настю», автор иронизировал: «Рассказ „Настя“ был написан мною в Токио в 2000 году. <…> И вот теперь этот текст дошел до мозгов наших народных бронтозавров и те разразились негодующим ревом. Но впечатляет не рев отечественных бронтозавров, а скорость нервного импульса в их телах: 16 лет». Вот люди, «поддерживающие чтение» почему-то мыслят не быстрее этих запретителей.
Следите за руками. Программа стартует в 2007 году. Подготовка идёт до 2010, с тех пор (и по сей день) программа реализуется, потом в каком-то там году собираются новые данные и оценивается эффективность.
Проблема в том, что эффективность оценивается по критериям, разработанным в том же 2006 году. То есть программа рассчитана на работу с количественными показателями. А ситуация изменяется качественно, причём каждый год. С начала программы разросся Вконтакте, появились айпэды, заработал букмейт, люди начали массово читать с мобильников. Случился взрыв YA-литературы, начало выходить море комиксов, появлялись и исчезали книжные фестивали…
Короче, книжный мир меняется постоянно. Количество книг, взятых в библиотеке в 2007 году, нельзя сравнивать с аналогичным показателем в 2017: они по разному характеризуют читающих людей. Если авторы хотят, чтобы программа работала, пятилетки и планы не годятся. Нужно ежегодно пересматривать критерии, корректировать задачи в соответствии с меняющимся миром, и держать нос по ветру.
Когда какие-то «активисты» в этом году требовали запретить сорокинскую «Настю», автор иронизировал: «Рассказ „Настя“ был написан мною в Токио в 2000 году. <…> И вот теперь этот текст дошел до мозгов наших народных бронтозавров и те разразились негодующим ревом. Но впечатляет не рев отечественных бронтозавров, а скорость нервного импульса в их телах: 16 лет». Вот люди, «поддерживающие чтение» почему-то мыслят не быстрее этих запретителей.
2016 November 10

Роберт Льюис Стивенсон написал «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда» за шесть дней. В чём секрет продуктивности? Стивенсон всю неделю не слезал с кокаина.
https://www.theguardian.com/society/2008/nov/16/drugs-history-literature
https://www.theguardian.com/society/2008/nov/16/drugs-history-literature
2016 November 11

125 лет назад родилась Лиля Брик. Маяковский любил её, писал стихи и рисовал в письмах нелепых щенков (Лиля называла Маяковского Щеном).

Наделал вам стикеров по такому поводу.

Кажется, нашли место, где похоронен Хармс.
В Новосибирске, кстати, есть нелепая легенда о том, что он умер у нас в эвакуации, и похоронен на месте нынешнего парка «Берёзовая роща» (там и правда было кладбище). Чушь, конечно: кто бы стал вывозить пациентов психбольнцы из блокадного Ленинграда и переправлять через полстраны. Но в Новосибирске не так много хороших городских легенд, дорожим даже этим.
http://www.colta.ru/news/13041
В Новосибирске, кстати, есть нелепая легенда о том, что он умер у нас в эвакуации, и похоронен на месте нынешнего парка «Берёзовая роща» (там и правда было кладбище). Чушь, конечно: кто бы стал вывозить пациентов психбольнцы из блокадного Ленинграда и переправлять через полстраны. Но в Новосибирске не так много хороших городских легенд, дорожим даже этим.
http://www.colta.ru/news/13041

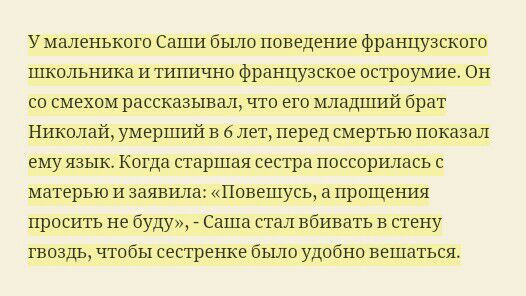
О чувстве юмора Пушкина
http://galkovsky.livejournal.com/261986.html
http://galkovsky.livejournal.com/261986.html
2016 November 12

Хотел много чего прочитать и написать, но вместо этого полночи (буквально) водил экскурсию для какого-то студотряда. Музейщиком быть непросто, если музей работает до последнего посетителя.

Тем временем, моему стикерпаку по «Собачьему сердцу» исполнилось полгода. Сомнительное достижение, но он мне по-прежнему нравится.


Во дни тягостных раздумий вспоминаю, что Пушкин иногда писал в разные журналы памфлеты под псевдонимом Феофилакт Косичкин, и жить становится как-то легче.