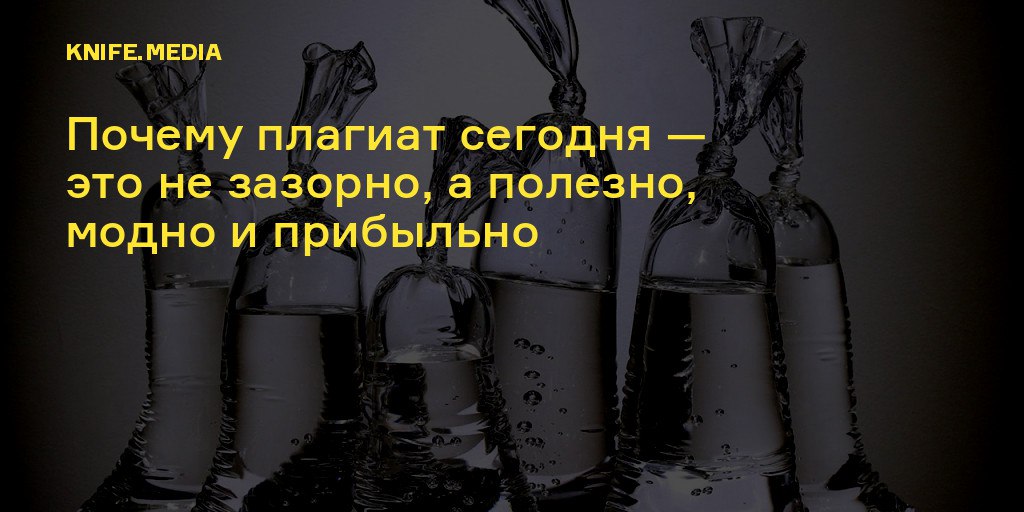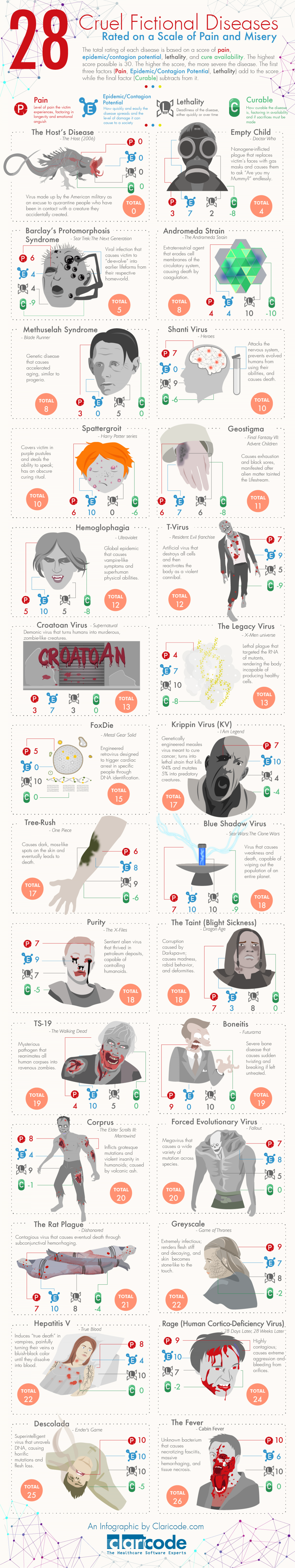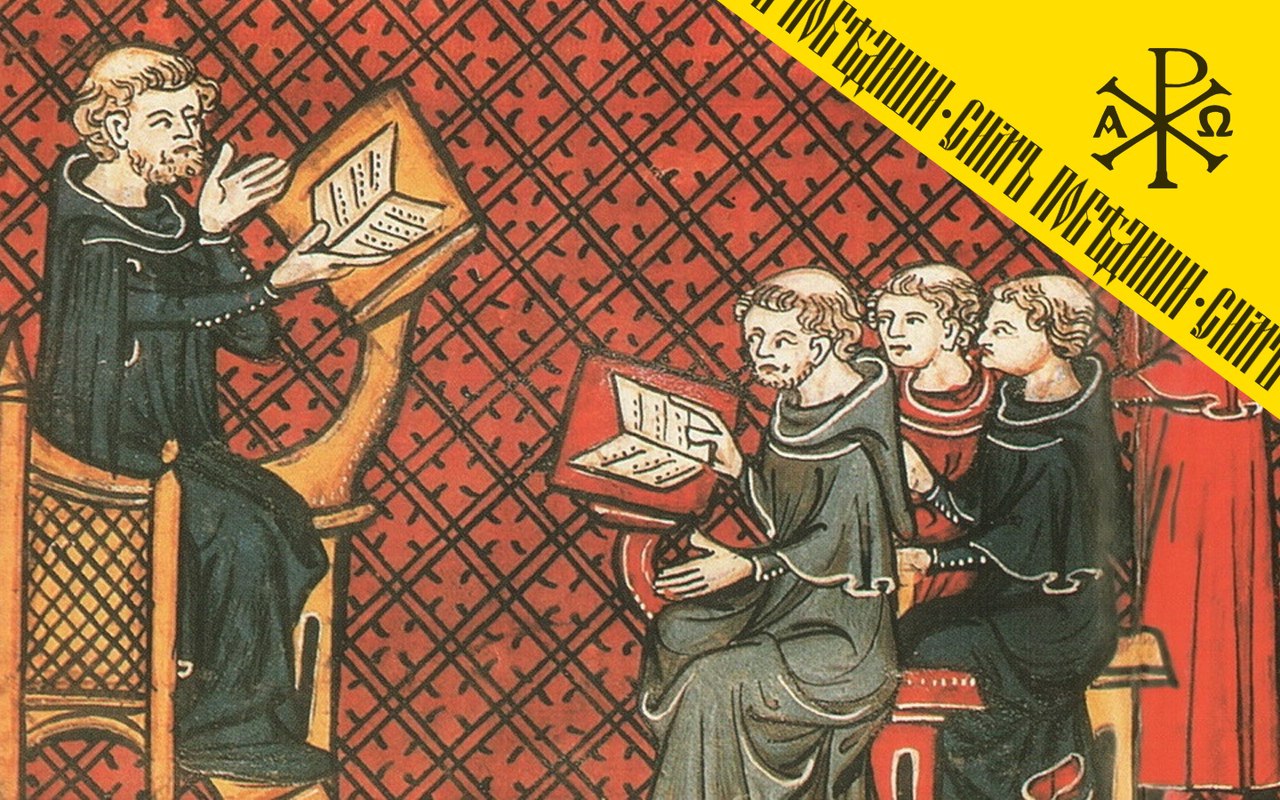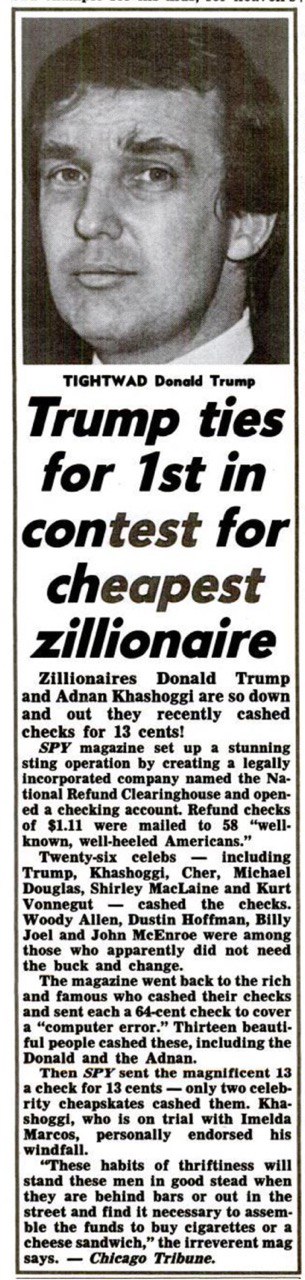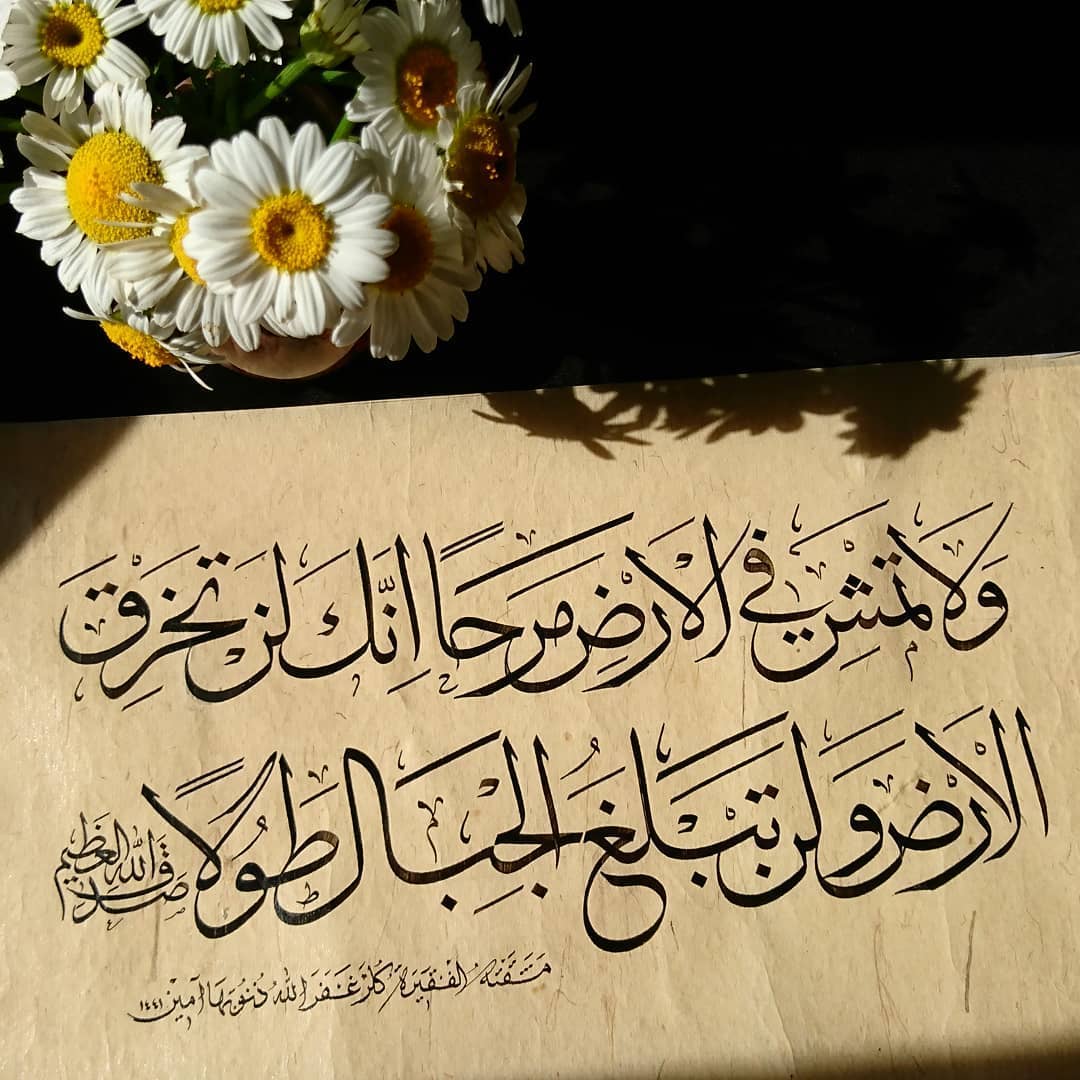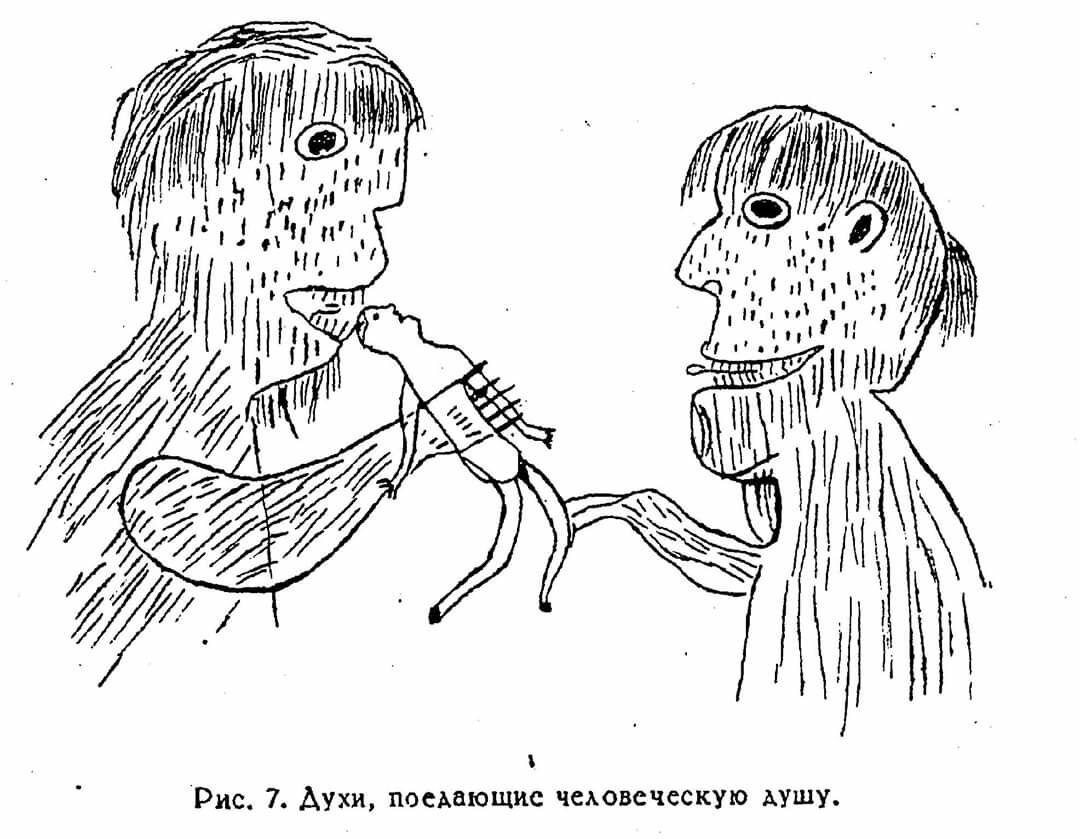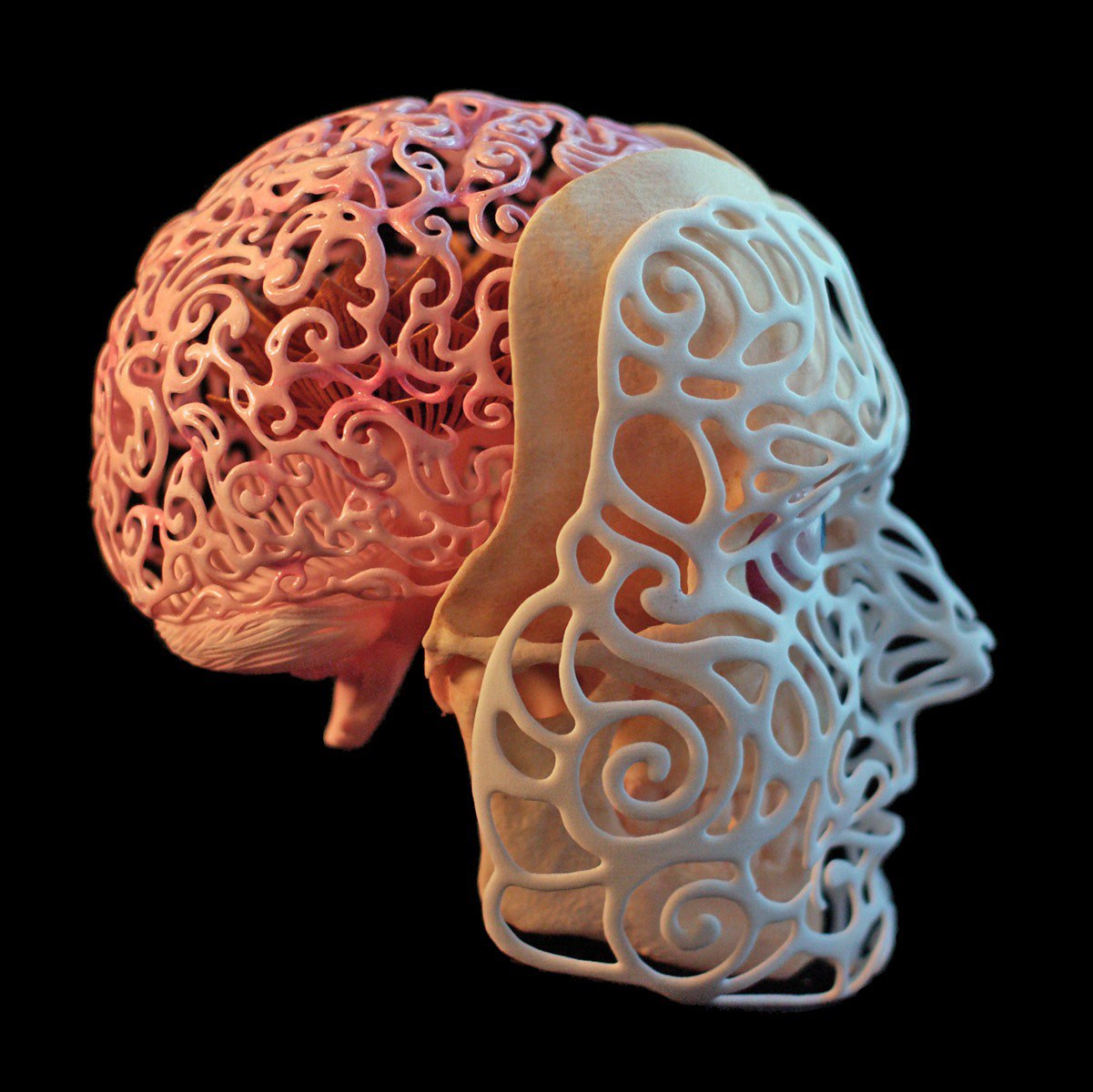Здравствуйте сегодня.
Недавно меня внезапно спросили про анксиолитики в
кружке Пейпеца, серьёзно посвящённому фармацевтике и психофармацевтике, насколько я могу помнить.
Сразу скажу, что я в теме фармацевтики не разбираюсь нисколько. Все вопросы, взятые для ответа — все их явные и не очень явные пресуппозиционные утверждения берутся как есть (as is), кроме одного, который я вообще мог бы разобрать; однако он не относится к теме психофармацевтики.
Спросили меня как философа, хотя я не профессиональный философ, а также именно как такого, чьим исследовательским полем является совсем другое. Поэтому многие ответы представляют из себя скорее пересылки к тем, кого я считаю большим специалистом по нужным областям, чем нечто полноценное (да-да, сюда же и социология того, кто кого считает экспертом и почему...).
В общем, вот.
\/ \/ \/
Вопрос можно кратко сформулировать в структурном виде примерно... так:
1. Тревога в современной медицине дифференцируется на нормальную и патологическую;
2. Нормальная тревога является нормально работающим и эволюционно выверенным механизмом;
3. Конвенция в дифференциации состоит в том, что если тревога длится больше определенного времени и если негативно влияет на функционирование (других когнитивных и психосоматических механизмов?), то она — патологическая;
4. Изучая и разрабатывая анксиолитики, мы используем ситуации, которые в норме, в эволюционном смысле, провоцируют у животных тревогу, создавая транквилизаторы, которые давят мобилизирующие свойства нормальной тревоги, которая направлена на выживание и приспособление;
5. Моделировать же патологическую тревогу на животных мы, однако, умеем, но это, увы, слишком долго и сложно, как в научном смысле, так и в смысле фармацевтического производства; разрабатываемые транквилизаторы, увы, не действуют на неё избирательно — по причинам данной сложности;
6. По результату, и теоретически, и на практике, мы получаем такие лекарства, которые погашают, что связано с мобилизацией с vigilance-механик, чтобы, видимо, избавиться от эффекта сверхбдительности (hypervigilance), в рамках которого мы имеем некоторое связывание с самой тревожностью
(я не могу знать, какое: либо сверхбдительность вызывает тревожность, либо что-то ещё — лучше спросите на том канале) — и это всё с условием того, что я правильно понял тезис;
7. Фармакология как бы воспитывает в культуре непринятие тревоги как таковой, в том числе нормальной тревоги, мощного адаптивного механизма, который вообще-то позволяет нам лучше приспосабливаться к этому непонятному и неконтролируемому миру;
фармакология влияет на общественные представления так, что в обществе теперь — на уровне социальных фреймов и культурных кодов — для тревоги самой по себе идёт восприятие именно как враждебной и как патологичной,
хотя это не так, и даже в тех случаях, когда она нам именно что
нужна;
8. В итоге, как считает или как чувствует, вопрошающий, как-то так вот возникает, взращивается поколение валиума. И это неправильно. Это не то общественное осознание тревоги, которое хотел бы иметь в мире спрашивающий и которое, судя по постулатам, действительно не является тем, что должно было бы быть — оно как минимум некорректно, а что говорить о последствиях?
Так вот, вопрос о последствиях.
Как можно понять тревогу уже почти как синдром современной культуры?
Не действуют ли транквилизаторы, как они производятся и как они подаются как технология, как некоторый сложный социальный объект, как некоторое явление и как даже наше окружение, на какие-то общечеловеческие принципы, на философию их понимания и на философию современного человека вообще?