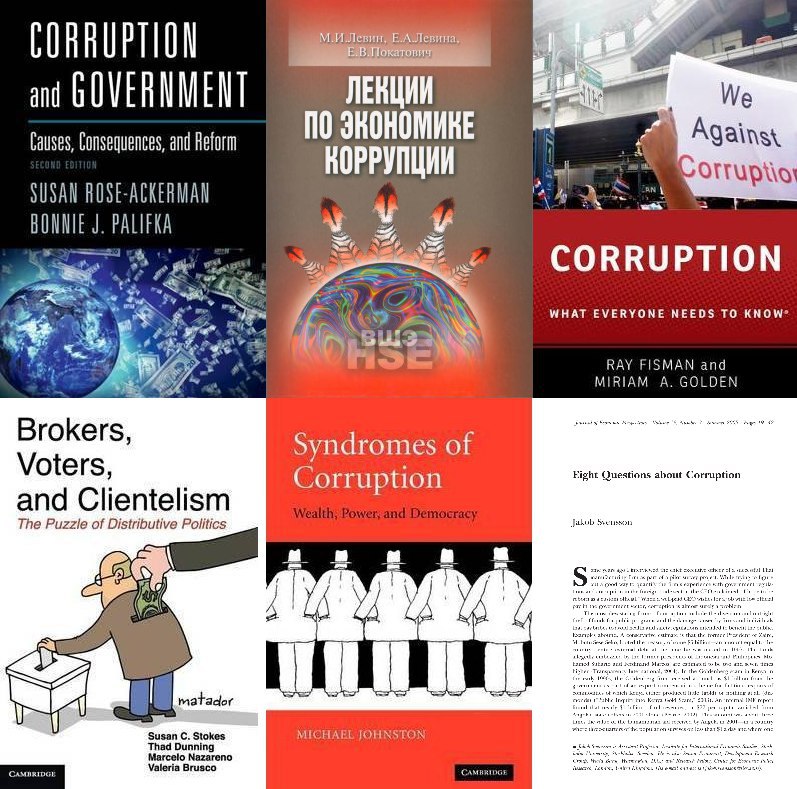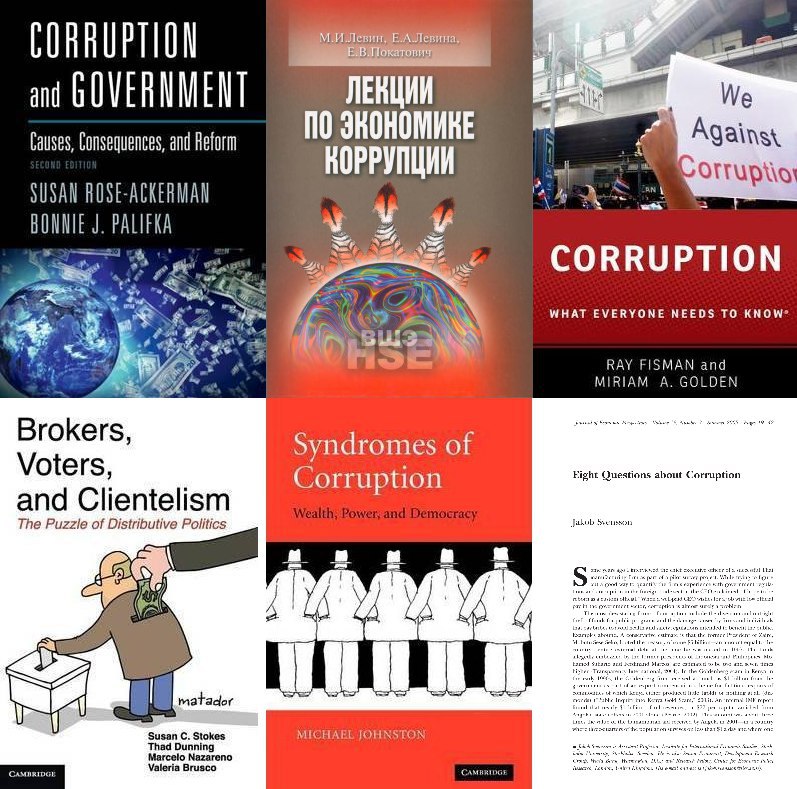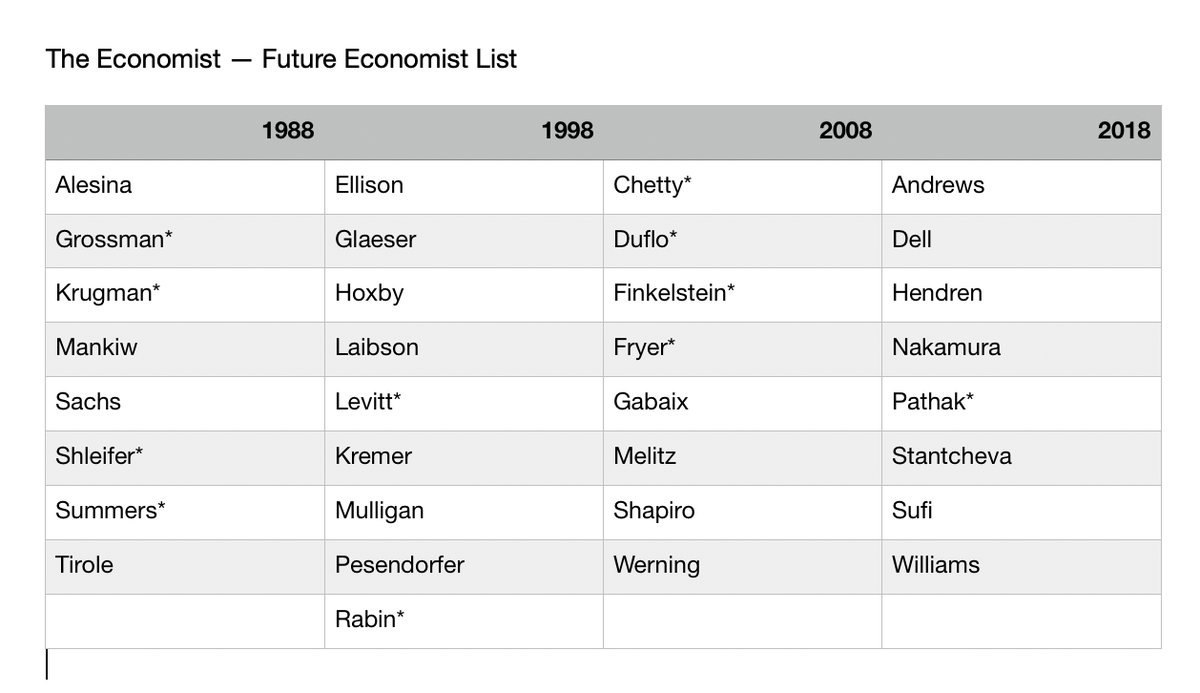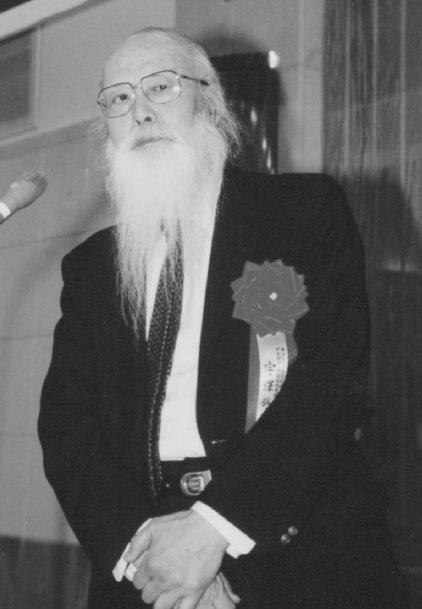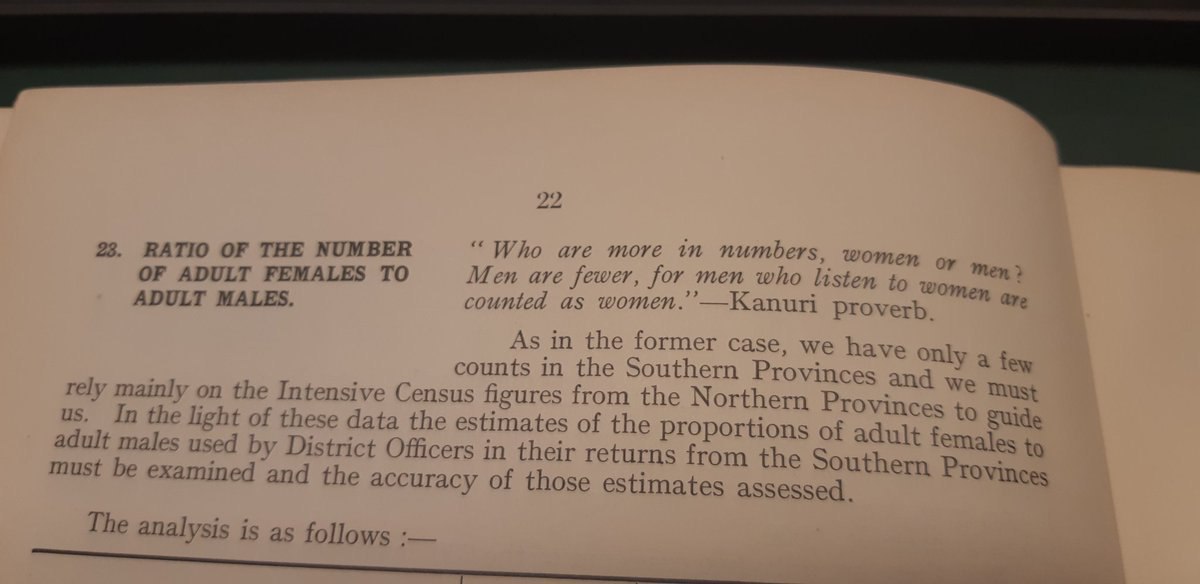Подоспел ответ на мою критику из прошлой записи, в двух частях.
Часть 1:
https://t.me/sublimeporte/585Часть 2:
https://t.me/sublimeporte/586Обсуждать там нечего: Камиль пишет, что цитируемых мной работ не читал, поэтому решает покритиковать другую работу того же автора, которую читал (для любителей искать логические ошибки – перед вами классическое «отравление источника»). В общем, от позиции «сравнительной истории экономической политики нет» пошло отступление на «история есть, но мне она не нравится».
Что важного выявилось в полемике, так это различие в том, как «эмпирику» понимает экономист и компаративист. Для экономиста эмпирика – это ряды данных, которые можно анализировать статистическими методами. Да, для многих исторических периодов имеющиеся данные будут лишь приближением, но это лучшее, на что мы можем рассчитывать. Для компаративиста эмпирика – это, по сути, история идей об экономической политике («что писал Даниэль Дефо в 18 веке», «что говорили в Парламенте»). Это всё интересно, но не должно восприниматься некритически: вдруг мы, имея большое количество архивных данных и статистики, а также два столетия истории, видим картину развития экономики чуть лучше, чем Дефо?
Экономические историки и историки идей аккуратно сопоставляют исторические данные и показывают, что мнения «свидетелей истории» часто бывают ошибочными. Приведу лишь два примера. В статье Митченера, Шизуме и Вайденмаера (JEH, 2010) анализируются парламентские дебаты в Японии, предшествовавшие решению перейти на золотой стандарт в 1897 году. Парламентарии видели множество причин перейти на золотой стандарт, но не все они оправдались: например, внутренние процентные ставки не понизились, так что инвестиционного бума не случилось. В статье Деннисон и Каруса (Historical Journal, 2003) рассказывается о путешествии Августа фон Гакстгаузена в Россию: в 1843 г. прусский барон полгода пробыл в России, после чего написал книгу, в которой подробно писал о русской крестьянской общине. Гакстгаузен не знал русского и большую часть своего путешествия провел в карете; тем не менее, его идеи быстро подхватили как западники, так и славянофилы. Деннисон и Карус на большом массиве документов из крестьянской жизни того времени показывают: Гакстгаузен не описывал русскую общину, а проецировал свои идеи идеального сельского порядка на русских. Реальная жизнь общины сопровождалась конфликтами по поводу переделов земли, крестьяне активно участвовали в земельном и кредитном рынке, да и в целом доходы с общинной земли составляли не такую большую часть общих доходов крестьянского домохозяйства.
Я не знаю, как охарактеризовать позицию, когда расчеты экономических историков, погруженных в историческую статистику, объявляются «грубыми прикидками», зато превозносятся работы Райнерта и прочих представителей «другого канона», которые просто пересказывают мнения современников об экономической политике и рассказывают отдельные кейсы без какого-либо систематического анализа данных. The plural of anecdote is not data. Заметим, что монополии авторы другого канона хвалят на основе устаревшего представления Шумпетера о том, что монополия способствует экономическому росту (за более современным представлением – в главу 12 книги Economics of Growth ведущего «неошумпетерианца» Филипа Агиона).